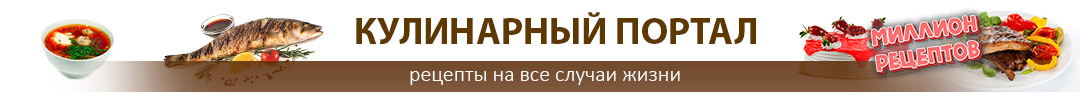Как дед щукарь кашу варила
![]()

Котёл быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря. Любишкин вытащил кусочек мясца, понёс его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел.
– Это что же такое? – зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса.
– Должно, крылушко, – спокойно ответил дед Щукарь.
Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева.
– Кры-луш-ко. А ну, гляди сюда, каш-ше-варррр! – зарычал он.
– Ох, милушки мои! – ахнула одна из баб. – Да на ней когти.
– Повылазило тебе, окаянная! – обрушился на бабу Щукарь. - Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи!
Он кинул на разостланное ряднище ложку, всмотрелся: в подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперённая на конце перепонками и крохотными коготками.
– Братцы! – воскликнул потрясённый Аким Бесхлебнов. – А ить мы лягушку съели.
Вот тут-то и началось смятение чувств: одна из брезгливых бабёнок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой.
Кондрат Майданников, глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, насилу выкрикнул: "Ой, бабочки! Оскоромилися вы!" Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его: "Не видать вам теперича причастия!" – в притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущённый смехом, свирепо заорал:"Какой тут могет быть смех?! Бить Щукарячью породу. "
– Откель могла лягушка в котёл попасть? – допытывался Любишкин.
– Да ить он воду в пруду черпал, значит, не доглядел.
– Сукин сын! Нутрец седой. Чем же ты нас накормил?! – взвизгнула Аниська, сноха Донецковых, и с подвывом заголосила:
– Ить я зараз в тягостях! А ежели вот скину через тебя, подлюшного.
Да с тем как шарахнет в деда Щукаря кашей из своей миски!
Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный Щукарь упорно выкрикивал:
– Охолоньте трошки! Это не лягушка! Истинный Христос, не лягушка!
– А что же это? – наседала Аниська Донецкова, страшная в своей злобе.
– Это одна видимость вам! Это вам видение! – пробовал схитрить Щукарь.
Но обглодать косточку "видимости", предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы вконец разозлённый бабами Щукарь не крикнул:
– Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!
– Кто-о-о-о?! – изумились бабы.
– Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка – мразь, а в вустрице благородные кровя! Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал! Ел прямо на кореню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж её оттель вилочкой позывает. Проткнёт насквозь и – ваших нету! Она жалобно пишшит, а он, знай, её в горловину пропихивает. А почему вы знаете, может она, эта хреновина, вустричной породы? Генералы одобряли, и я, может, нарошно для навару вам, дуракам, положил её, для скусу.
Тут уж Любишкин не выдержал: ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку:
– Генералы? Для навару. Я красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь с. генерала. кормить?!
Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать.
Сделать ее заметнее в лентах пользователей или получить ПРОМО-позицию, чтобы вашу статью прочитали тысячи человек.
- Стандартное промо
- 3 000 промо-показов 49 KР
- 5 000 промо-показов 65 KР
- 30 000 промо-показов 299 KР
- Выделить фоном 49 KР
Статистика по промо-позициям отражена в платежах.
Поделитесь вашей статьей с друзьями через социальные сети.
Получите континентальные рубли,
пригласив своих друзей на Конт.

Котёл быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря. Любишкин вытащил кусочек мясца, понёс его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел.
– Это что же такое? – зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса.
– Должно, крылушко, – спокойно ответил дед Щукарь.
Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева.
– Кры-луш-ко. А ну, гляди сюда, каш-ше-варррр! – зарычал он.
– Ох, милушки мои! – ахнула одна из баб. – Да на ней когти.
– Повылазило тебе, окаянная! – обрушился на бабу Щукарь. - Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи!
Он кинул на разостланное ряднище ложку, всмотрелся: в подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперённая на конце перепонками и крохотными коготками.
– Братцы! – воскликнул потрясённый Аким Бесхлебнов. – А ить мы лягушку съели.
Вот тут-то и началось смятение чувств: одна из брезгливых бабёнок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой.

Кондрат Майданников, глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, насилу выкрикнул: "Ой, бабочки! Оскоромилися вы!" Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его: "Не видать вам теперича причастия!" – в притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущённый смехом, свирепо заорал:"Какой тут могет быть смех?! Бить Щукарячью породу. "
– Откель могла лягушка в котёл попасть? – допытывался Любишкин.
– Да ить он воду в пруду черпал, значит, не доглядел.
– Сукин сын! Нутрец седой. Чем же ты нас накормил?! – взвизгнула Аниська, сноха Донецковых, и с подвывом заголосила:
– Ить я зараз в тягостях! А ежели вот скину через тебя, подлюшного.
Да с тем как шарахнет в деда Щукаря кашей из своей миски!
Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный Щукарь упорно выкрикивал:
– Охолоньте трошки! Это не лягушка! Истинный Христос, не лягушка!
– А что же это? – наседала Аниська Донецкова, страшная в своей злобе.
– Это одна видимость вам! Это вам видение! – пробовал схитрить Щукарь.
Но обглодать косточку "видимости", предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы вконец разозлённый бабами Щукарь не крикнул:
– Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!
– Кто-о-о-о?! – изумились бабы.

– Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка – мразь, а в вустрице благородные кровя! Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал! Ел прямо на кореню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж её оттель вилочкой позывает. Проткнёт насквозь и – ваших нету! Она жалобно пишшит, а он, знай, её в горловину пропихивает. А почему вы знаете, может она, эта хреновина, вустричной породы? Генералы одобряли, и я, может, нарошно для навару вам, дуракам, положил её, для скусу.
Тут уж Любишкин не выдержал: ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку:
– Генералы? Для навару. Я красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь с. генерала. кормить?!
Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать.

Дед Щукарь и философия жизни
Хорошо дед рассуждал, прямо по-христиански: нет безгрешных в мире сем, но кричать об этом не следует, лучше отнестись с пониманием.
Да вот искушение! Времена нынче таковы, что мы сплошь чужие сучки замечаем, а того, что сами давно уподобились лесоповалу, — и мысли не возникает.
Но ведь дед Щукарь, общественной кобылой управляючи, рассуждал не только и не столько о чужих грехах, сколько об особенностях и отличительных чертах человеческих характеров. Мы же в отличиях от себя любимых видим не оригинальность другого человека, которого Бог позволил нам узнать, а покушение на собственную исключительность.
Нам даны Заповеди, которые надо стремится исполнять, но о том, как мы это должны делать, Слово Божие лишь рассуждает. Приказывать в данной сфере невозможно. Именно поэтому Новый Завет составляют четыре Евангелия, три из которых чрезвычайно похожи друг на друга, но все-таки разнятся между собой. Апостолы Матфей, Марк и Лука рассказывают об одном и том же, но каждый из них увидел во Христе и событиях тех времен то, что ближе и понятней лично ему.
Что это? Отголоски единого советского колхоза, когда все должны были быть равны и похожи? Откуда этот стадный рефлекс, где пропадают особенности, отличия, преимущества и недостатки?
Ведь у каждого своя жизнь, непохожая на других. Можно желать уподобления великому подвижнику, можно иметь идеал и стремиться к нему. Но это же не значит, что нужно собственноручно отказываться от присущей только себе индивидуальности! Ведь такой отказ — отречение от образа, дарованного тебе Творцом.
Таланты человека индивидуальны, и мера их присутствия различна. Тем-то и удивительна и прекрасна земная жизнь, что в ней у каждого есть свое жизненное пространство, свои, не присущие никому другому, особенности. Умалять божественный замысел о человеке, по замечанию схиархимандрита Софрония (Сахарова), есть один из великих грехов современности:
Беда начинается тогда, когда мы пытаемся подогнать под себя не окружающую действительность, а тех, кто рядом с нами. Одно дело учить наукам, давать знание, но совершенно другое — управлять чужими поступками. Ведь мы сами далеко не святы, мы живем в грехе, и страсти очень часто властвуют над нами.
Нынче пред исповедальным аналоем в храмах очередь, и почти каждый с жалобой и сетованием: я, мол, стараюсь от греха бегать, но обстоятельства не дают; окружающие неверно себя ведут и меня вынуждают под них подстраиваться.
Но ведь дары Духа многообразны, природные человеческие способности тоже, и при этом каждый человек ограничен и грешен. Следовательно, неизбежны различия в духовном и житейском опыте, неминуемы разномыслия, дабы открылись искусные .
Не надо бороться с другими. Давайте свой собственный сучЁк обламывать или хотя бы потихоньку спиливать. Преподобный Серафим Саровский часто повторял:
Мы же все воюем, все отыскиваем причины неудач и неустроений во внешней среде.
— Спасибочка всем вам за угощение и водку, а тебе, Куприяновна, низкий поклон. Если хочешь знать, так ты ничуть даже не баба, а сундук с золотом, факт. С твоим уменьем варить кашу тебе бы не вахлакам стряпать, а самому Михаилу Иванычу Калинину. Голову отсеки мне, а через год на твоих грудях уже висела бы какая-нибудь медаль за отличное усердие, а может, какой-нибудь шеврон на рукав он тебе пожаловал бы, ей-богу, не брешу, факт. Уж я-то до тонкостев знаю, что есть главное в жизни…
— А что? — с живостью спросил сидевший рядом Дубцов. — Что, дедушка, главное, по твоему разумению?
— Жратва! Фактически говорю, что только жратва, и больше ничего главнее нету.
М. А. Шолохов. Поднятая целина
Сегодня немногие знают, что такое кулеш и как его готовить.
Sórbus aucupária
Михаил Шолохов. Поднятая целина. Книга 2. Часть 44. Глава 4.
Обычно, если лиса заходит в курятник, то дело идет к катастрофе. Но, эта лиса не представляла собой никакой опасности для кур. Животное ворвалось в…
Сейчас в блоге у alex195130 прочла интересную историю о том, как мальчик 6 лет, постоянно живущий в городе, первый раз увидел, как растут ягоды. Он…
. Все петухи в Гремячем Логу были на редкость, прямо-таки на удивление разноголосы. Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех…
Известно, что Петух в курятнике глава, И дело тут не только в оперенье, А власть его от века такова - Средь кур своих он как султан в гареме, И муж,…
Я размахиваю крыльями без отдыха, Так что ветви на смородине качаются Пыль давно уже повисла тучей в воздухе. Все равно летать совсем не…
- ЖАНРЫ 360
- АВТОРЫ 261 144
- КНИГИ 601 986
- СЕРИИ 22 610
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 567 387
В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.
Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов…
А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, – как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.
По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.
Заслышав встречь себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.
Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:
– А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?
– А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?
Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:
– Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час[1].
Без шапки, пиджак – внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.
– Кого нелегкая принесла? – улыбаясь в седеющие усы, спросил он.
– Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?
– Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю… Голос ваш, сдается мне, будто знакомый…
Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.
И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:
– Ваше благородие! Откель вас. Господин есаул. Лошадку мы зараз определим… Мы в конюшню… Сколько лет-то минуло…
– Ну-ну, ты потише! Времени много прошло… Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?
Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.
– Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет – тогда расседлаю, – говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.
– Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?
– Чудок есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперича величать и не знаю… По-старому – отвык и вроде неудобно… – неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.
– Зови по имени-отчеству. Не забыл? – отвечал гость, первый выходя из конюшни.
– Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось… Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.
Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяя[2] папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам – хозяйке и снохе.
– Здорово живете, бабочки!
– Соберите повече́рять, – коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.
Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:
– Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.
Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.
Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.
За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздком к палисаднику, по самой кабаржине кособоко прогуливалась – и что-то клевала – сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал – по-летнему синий – клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.
– Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну что ж… Остальные восемь двадцатипятитысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. – Секретарь думающе пожевал губами. – Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району – четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ[3]. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.
И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.
Глава XIX
Опорожнив вторую миску жидкой пшенной каши, лишь слегка сдобренной салом, дед Щукарь пришел в состояние полного довольства и легкой сонливости. Благодарно глядя на щедрую стряпуху, сказал:
— Спасибочка всем вам за угощение и водку, а тебе, Куприяновна, низкий поклон. Ежли хочешь знать, так ты ничуть даже не баба, а сундук с золотом, факт. С твоим уменьем варить кашу тебе бы не вахлакам стряпать, а самому Михал Иванычу Калинину. Голову отсеки мне, а через год на твоих грудях уже висела бы какая-нибудь медаль за отличное усердие, а может, какой-нибудь шеврон на рукав он тебе пожаловал бы, ей-богу, не брешу, факт. Уж я-то до тонкостев знаю, что́ есть главное в жизни…
— А что? — с живостью спросил сидевший рядом Дубцов. — Что, дедушка, главное, по твоему разумению?
— Жратва! Фактически говорю, что только жратва, и больше ничего главнее нету.
— Ошибаешься ты, дедушка, — печально сказал Дубцов, кося цыганскими глазами на остальных слушателей и сохраняя самый серьезный вид. — Жестоко ты ошибаешься, а все потому, что умишко у тебя на старости годов стал такой же жидкий, как вот эта каша, какую ты хлебал. Разжижели твои мозги, потому ты и ошибаешься…
Дед Щукарь снисходительно улыбнулся:
— Пока неизвестно, у кого мозга круче замешана: у тебя или у меня. А по-твоему, что́ есть главное в жизни?
— Любовь, — скорее выдохнул, чем проговорил Дубцов и так мечтательно закатил глаза под лоб, что, глядя на его смуглое рябое лицо, первая не выдержала Куприяновна.
Она фыркнула громко, как лошадь, почуявшая дождь, и, вся сотрясаясь от смеха, закрыла рукавом кофточки побагровевшее лицо.
— Ха! Любовь! — Щукарь презрительно улыбнулся. — Да что она стоит, твоя любовь, без хорошего харча? Тьфу, и больше ничего! Не покорми тебя с недельку, так от тебя не то что Куприяновна, но и родная жена откажется.
— Это как сказать, — упорствовал Дубцов.
— Тут и говорить нечего. Я все дочиста наперед знаю, — отрезал дед Щукарь и назидательно поднял указательный палец. — Вот я вам зараз расскажу одну оказию, и все придет в ясность, и никаких споров больше не понадобится.
Редко приходилось встречать деду Щукарю более внимательных слушателей. Около тридцати человек сидело вокруг костра, и все боялись проронить хоть одно Щукарево слово. Так по крайней мере казалось ему. Да и что было спросить со старика? На собраниях ему никогда не давали слова; Давыдов во время поездок был молчалив, все что-то обдумывал про себя; старуха Щукаря даже смолоду не отличалась разговорчивостью. С кем же было отвести душу бедному старику? Потому-то он теперь, найдя благосклонных слушателей, будучи после ужина в отличнейшем расположении духа, и решил наговориться вволю. Он уселся поудобнее, сложил ноги калачиком, разгладил ладонью бороденку и только что раскрыл рот, чтобы начать неспешное повествование, как его опередил Дубцов — с нарочитой строгостью сказал:
— Ты рассказывай, дед, только без брехни! У нас в бригаде обычай такой: пороть брехунов вожжами.
Дед Щукарь тяжело вздохнул, погладил ладонью левую ногу.
Свистящим шепотом Куприяновна спросила:
— Выходит, что и ты, дедуня, производитель?
— А кто же я, по-твоему? — с гордостью ответил Щукарь.
— О господи! — простонала Куприяновна и больше ничего не могла сказать, потому что зарылась лицом в передник, и в тишине слышался только ее сдавленный хрип.
— Ты, дед, не обращай на нее внимания, ты гни свою линию, — ласково сказал Кондрат Майданников и отвернулся от костра.
— Я на этих баб всею жизню не обращаю никакого внимания, а обращал бы — может, я бы до таких древних годов ни хрена не дожил, — уверенно ответил Щукарь.
— Ну, хорошо, прибыл я к табуну, гляжу вокруг себя, и глаза не нарадуются! Кругом такой ажиотаж, что век бы оттуда не уезжал! Лазоревые цветки по степи, травка молодая, кобылки пасутся, солнышко пригревает, — одним словом, полный тебе ажиотаж!
— А что это такое за слово ты сказал? — поинтересовался Бесхлебнов.
— А откуда ты их нахватался, этих слов? — продолжал допытываться любознательный Бесхлебнов.
Это, то есть, такой пень, что Демид Молчун, ежли сравнять их, самый разговорчивый человек у нас в Гремячем Логу. Что я из-за его молчания му́ки в степи принял — несть числа! Не с кобылами же мне разговаривать? А Васька молчит сутками напролет, только жрет с хрустом, а остальное время либо молчаком спит, либо лежит под ватолой, как гнилая колода, и то же самое молчит. Редко-редко глазами похлопает и опять молчит. Вот какой вопрос он мне задал, вовсе не разрешимый. Одним словом, прожил я там трое суток, как на кладбище, в гостях у покойников, и уже начал сам с собою разговаривать. Э-э-э, думаю, так дело не пойдет! Так недолго и умом тронуться такому компанейскому человеку, как я.
— Ты нам про любовь без харчей рассказывай, а не про то, как кочета поют, — нетерпеливо прервал рассказчика учетчик бригады.
— Вы, гражданы, не волнуйтесь, дойдет дело и до разных и тому подобных любвей, это не вопрос. Так вот, про этого Ваську глухого. Было бы полбеды, ежли бы он только в молчанку играл, а он к тому же ишо такой обжористый оказался, что никакого сладу с ним не было. Наварим каши или галушков из пресного теста, и что же получается? Я — раз ложкой зачерпну из чугунка, а он — пять раз. Орудует своей огромадной ложкой, как дышло на паровозе: туда-сюда, туда-сюда, из чугунка в рот, из рота в чугунок, я — глядь, а каши уже на самом донышке. Встаю голодный, а он раздуется, как бычий пузырь, ляжет кверху пузом и тогда зачнет икать на всю степь. Часа два поикает, нечистая сила, и переходит на храп. А храпит, проклятый сын, так, что даже кобылы, какие поблизости от нашего шалаша, пужаются и бегут куда глаза глядят. Спит до ночи, спит не хуже, чем сурок зимой.
— Ты когда про любовь зачнешь рассказывать? — нетерпеливо спросил Дубцов.
Щукарь досадливо поморщился:
— Далась вам эта любовь, будь она трижды проклята! Я этой самой любови всею жизню избегал, ежли бы покойный мой папаша не принудил — я бы и не женился вовек, а зараз, изволь радоваться, рассуждай про нее. Тоже вопрос нашли… А ежли хотите знать, вот что получилось тогда из любви без харчей…
Прибыл я к месту назначения, разбили табун на два косяка, а женихи мои на кобылок и не глядят, только травку стригут зубами безо всякой устали… Круглый ноль внимания на своих невест! Вот это, думаю, дело! Вот это я влип в срамоту со своими призводителями. Я и овса даю им в полную меру, а они, один черт, и не поглядывают на кобылок.
День не глядят и второй — тоже. Мне уже возле этих бедных кобылок ходить неловко, иду мимо и отворачиваюсь от стыда, не могу им в глаза глядеть, да и баста! Сроду никогда не краснел, а тут краснеть научился: как только подхожу к косяку, чтобы гнать его на водопой к пруду, и вот тебе, пожалуйста, начинаю краснеть, как девка…
Он же, милый мой страдалец, отбег сажен десять, остановился и так жалостно заиржал, что меня прямо за сердце схватило, и тут уже я заплакал от жалости к нему. Подошел без кнута, глажу его по храпу, а он и мне на плечо голову положил и вздыхает…
Оглядев своих слушателей торжествующим взглядом, дед Щукарь продолжал:
— И что вы понимаете в жизни, ежли вы, как жуки в навозе, все время копаетесь в земле? А я-то по крайней мере каждую неделю, то один раз, то чаще, бываю в станице. Вот ты, Куприяновна, слыхала хучь разок, как говорит радио?
— Откуда же я его слыхала бы, ежли я в станице была десять лет назад.
— А какие у тебя могут быть дела в станице? — спросил Аким Бесхлебнов.
Дед Щукарь вздохнул:
Пока добег до аптеки — сердце зашлось. Но и в аптеке очков не оказалось. Езжай, говорят, дедушка, в Миллерово или в Ростов, очки только глазной доктор может тебе прописать. Нет, думаю про себя: на какого шиша я поеду туда. Так и читаю словарь по догадке, вопрос с очками тоже оказался вовсе не разрешимый.
А сколько в станице разных пришествиев со мной случалось — несть числа!
— Ты, дедушка, рассказывай все по порядку, а то ты, как воробей, сигаешь с ветки на ветку, и не поймешь, где у тебя начало, а где конец, — попросил Дубцов.
— Ты, дед, давай про девку, а не про свои штаны, — строго прервал его Дубцов. — Ну, подумай сам, на черта нам твои штаны нужны?
— Вот и опять же ты меня перебиваешь, — грустно отвечал ему дед Щукарь. Но все же решился продолжать: — Стало быть, идет эта размилая козочка, ручкой помахивает, как солдатик, а я, грешник, думаю: как бы мне с ней хучь самую малость под ручку пройтиться? В жизни я ни с кем под ручку не ходил, а в станице часто видал, как молодые таким манером ходят: то он ее под руку тянет, то она его. А спрошу я вас, гражданы, где бы я мог такое удовольствие получить? В хуторе у нас так ходить не положено, засмеют, а иначе где?
Дед Щукарь еще долго продолжал бы свое нескончаемое повествование, но усталые после рабочего дня слушатели стали расходиться. Тщетно старик умолял их выслушать хоть еще несколько рассказов, — возле угасшего костра вскоре не осталось ни одного человека.
Но каков же был его ужас, когда он, желая сбросить с себя живую тяжесть, вдруг обнаружил, что это вовсе не мужская нога, а оголенная рука Куприяновны, а рядом со своей щекой услышал ее могучее дыхание. В будке спали одни женщины…
Потрясенный Щукарь несколько минут лежал не шевелясь, обливаясь от волнения потом, а затем схватил чирики и, как нашкодивший кот, тихонько выполз из будки и, прихрамывая, затрусил к линейке. Никогда еще не запрягал он своих жеребцов с таким невиданным проворством! Нещадно погоняя жеребцов кнутом, он пустил их с места крупной рысью, все время оглядываясь на будку, зловеще темневшую на фоне рассветного неба.
Наступал стремительный летний рассвет. Будка скрылась из глаз Щукаря. Но за бугром его ждало новое потрясение: случайно глянув на ноги, он обнаружил на правой ноге женский почти новый чирик, с кокетливым кожаным бантиком и фасонистой строчкой. Судя по размерам, чирик мог принадлежать только Куприяновне…
Километрах в двух от хутора, там, где близко к дороге подходит крутой яр, он принял еще одно и не менее отважное решение — снял с ног чирики, воровато глянул по сторонам и бросил чирики в яр, прошептав напоследок:
— Не погибать же из-за вас, будь вы прокляты!
Повеселевший, довольный тем, что так отлично избавился от изобличающих его улик, Щукарь даже заухмылялся, представив, как будет поражена Куприяновна, обнаружив утром загадочное исчезновение своего чирика.
Но слишком рано он развеселился: дома ожидали его два последних, самых страшных и сокрушительных удара…
Его заплаканная старуха качала завернутого в тряпье ребенка, а тот заливался судорожным плачем…
— Что же это такое за оказия? — уже громче прошептал потрясенный Щукарь.
И, яростно сверкая опухшими глазами, старуха крикнула:
— Дитя твоего подкинули, вот что это такое! Грамотей проклятущий! Читай вон бумажку на столе!
У Щукаря все больше темнело в глазах, однако он кое-как прочитал каракули, выведенные на листке оберточной бумаги:
К вечеру окончательно охрипшему от волнения и крика Щукарю почти удалось убедить старуху в его полной непричастности к рождению ребенка, но именно в этот момент на пороге кухни появился восьмилетний мальчишка, сын Любишкина. Шмыгая носом, он сказал:
— Дедуня, я нынче пас овец и видал, как вы уронили в яр чирики. Я нашел их, принес вам. Возьмите, — и он протянул Щукарю злополучные чирики…
Читайте также: