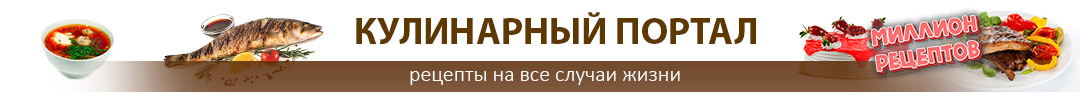Маяковский воздух как сладкий морс
Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю
перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами — сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
моря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.
- Свѣжее
- Сдано въ архивъ
- Плюкане
- Личное дѣло
- Запомнить
25 дек, 2002
- поэзия,
- русский дух,
- цитатник
- 5 уже есть
- Добавить думку
- Поделиться
- Flagъ
- Ссылка
Comments
.
Почему я не поступила так, как поступили Зенон Позняк и Сергей Наумчик, лидеры народного фронта Беларуси? Попросили политического убежища в Соединенных Штатах и получили. И нет проблем, я бы тоже получила, почему не прошу? Почему я сегодня сюда пришла, когда у меня была целая ночь, сколько угодно границ вокруг, сколько угодно машин, никаких проблем? Почему? Вот я предлагаю домашнее задание всем присутствующим, которым это еще не ясно. Предлагаю ответить на этот вопрос. А в качестве шпаргалки взять Маяковского, который явно не разделял мои убеждения, но отношение к России, наверное, разделял:
Землю, где воздух как ласковый морс,
Бросают и мчат, колеся,
Но землю, с которой вместе мерз,
Во век позабыть нельзя.
Можно забыть, где и когда,
Ты пузы растил и зобы,
Но землю, с которой вдвоем голодал,
Нельзя никогда забыть.
Нет хороших и плохих патриотов. Есть умные патриоты и глупые шовинисты.
.
Землю, где воздух, как сладкий морс,
Бросишь и мчишь, колеся,
Но землю, с которою вместе мерз,
Вовек разлюбить нельзя.
Заграница, "заграницы".
Лиц родных укор мне снится,
Пашни в россыпях пшеницы
И колодец с журавлём.
Пальм косматых вереницы
В Каннах, ниццах, биариццах,
Смена кадров в темпе блица
Двадцать пятый - отчий дом.
Снова на родной землице
КорЯт в рамках близких лица
От Руси - держав Царицы
Не осталось ничего.
ГрОши наши за границей,
К нам всё худшее сочится
Масло пальм взамен пшеницы,
Спайсы, Forex, ГМО.
Что ж мы, братцы и сестрицы,
Горько так, что можно спиться
Надо ж было умудриться
Дать Державу развалить.
Призываю всех сплотиться,
Наплевать на "заграницы",
Не с чужой руки кормиться,
А чужих с руки кормить!
Морозов В.
Можно забыть,где и когда
пузы растил и зобы,
но землю,
с которой вдвоем голодал,-
нельзя никогда забыть.
Место,где воздух,как сладкий морс,
бросишь и мчишь,колеся,-
но землю,
с которою вместе мерз,
вовек разлюбить нельзя.
От боя к труду-от труда до атак,-
в голоде,холоде и наготе
держали взятое,
да так,
что кровь выступала из-под ногтей.
Посреди винтовок и орудий голосища-
Москва островком,и мы на островке.
Мы-голодные,
мы-нищие,
с Лениным в башке и с наганом в руке.
Я видел края,где инжир с айвой
росли без труда у рта моего,-
к таким относишься Иначе.
Но землю,
которую завоевал
и полуживую вынянчил,
где с пулей встань,с винтовкой ложись,
где каплею льешься с массами,-
с такою землею пойдешь на жизнь,
на труд,на праздник
и нА смерть.

Я
много
в тёплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лёжа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймёшь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мёрз,
вовек
разлюбить нельзя.
Октябрьская поэма
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.
Слушайте,
национальный трутень, —
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.
Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают, —
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
— Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я
в комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.
Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
обли́т.
По розовой
глади
мо́ря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.
Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца́,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!
и семей. Лишь лежа
в такую вот гололедь, зубами
на людей жалеть ни одеяло,
как сладкий морс, бросишь
и мчишь, колеся, но землю,
вместе мерз, вовек
худа и строга, всех,
ушел ко сну. Где уж тут словам!
я не коснусь Я дни беру
из ряда дней, что с тыщей
в родне. Из серой
деньки, их гнали
сытенькие, не очень
чего написал, если
да карие, горячие
до гари. Телефон
взбесился шалый, в ухо
грохнул обухом: карие
опухоль. Врач наболталчтоб глаза
зелень. Не домой,
не на суп, а к любимой
несу за зеленый хвостик. Я много дарил
конфект да букетов, но больше
дорогих даров я помню
морковь драгоценную эту и пол
березовых дров. Мокрые,
тощие под мышкой
потолще средней бровинки. Вспухли щеки. Глазки
и ласки выходили глазки. Больше
легше, чем всем,я Маяковский. Сижу
младшая. -Здравствуй, Володя! -Здравствуй, Оля! -завтра новогодиенет ли
в ладонях вешаю щепотку
и страх, скользит сестра,
идет сестра, бредет
трехверстной Преснею солить
картошку пресную. Рядом
к пальцам. За стенкой
небу в шаль вползает
и поздний, встает
горячкой тифозной. Ушли
тучным. За тучей
Тетраптих
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!
Ни щей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюдце.
Но,
как на́зло,
есть революция,
а нету
масла.
Они
научные.
Напишут,
вылечат.
Мандат, собственноручный,
Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
обли́т.
По розовой
глади
мо́ря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ
На что ловят поэтов
Бездны бывают разные, не обязательно подводные и космические. На земле хватает бездн, и одна из самых бездонных и ужасных — сердце человеческое. И Всемирный потоп не обязательно связан с падением астероида или глобальным потеплением. Каждый водолаз знает: ниже определенной отметки подводник слышит зов бездны. Это значит, что наверх уже не подняться, что чудовищное давление сплющит тебя в блин. А философы XX века предостерегают (экзистенциалисты, пережившие коммунизм и фашизм): если человек склоняется над бездной и слишком пристально всматривается в нее, то бездна может ответно поглядеть в человека, и тогда — берегись.
А 18 января 1909 года Володя снова задержан полицией в ходе обыска. Не нашли ничего, и вдруг — прямо на сундуке лежит револьвер! Но друг семьи С.А. Махмудбеков (вот оно, кавказское рыцарство!) заявил, что револьвер принадлежит ему, а у Маяковских он его забыл (и нечего оружие швырять куда ни попадя). Поэтому мальчика освободили уже 27 февраля. Со вторым арестом было серьезнее. Один махровый боевик (Исидор Моргадзе), участник демонстраций в Кутаиси и покушения на генерала Алиханова (усмирителя Грузии), а в декабрьской Смуте сражавшийся в составе кавказской дружины (грузин можно понять, они боролись за независимость и разваливали империю, чтобы отломить свой кусочек рая), решил с товарищем (И.М.Сцепуро) подготовить массовый побег из Таганской тюрьмы. Для этого они поселились у Маяковских (нам каждый гость дарован Богом) и даже посвятили хозяев в детали.
Дело не выгорело, но в 1909 году эта сладкая парочка боевиков организовала массовый побег из Новинской женской каторжной тюрьмы, и опять помогли рыцарственные Маяковские. Как леди не помочь? Джентльмен помочь обязан. Первого июля — побег, а 2 июля Володю опять арестовали. Восемнадцатого августа 16-летний юноша попадает в Бутырки, сидит там одиннадцать месяцев, пишет плохие стихи и ждет высылки на три года в Туруханск под гласный надзор. Мама едет в Петербург хлопотать (без ведома сына), и Володю отпускают до суда как несовершеннолетнего. Это вам не сталинские времена, чтобы расстреливать 12-летних. Мальчик не просто сочувствовал, он лез на рожон. А в 1911 году выяснилось, что Володя неплохо рисует. И он пошел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот программное знакомство с Давидом Бурлюком, который писать не умел, но умел организовывать всякую муру вроде секции кубофутуристов.
Нисхождение в Мальстрём
Восхождение
Читайте также: