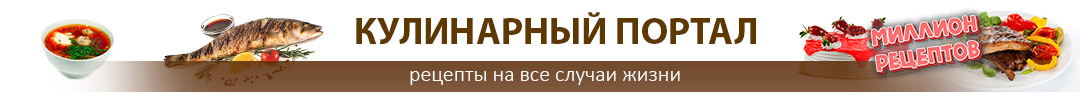Лев пирогов о шукшине
Обновлено: 15.05.2024
Хрен осенью. Между Шукшиным и Довлатовым
…А то с утра прихватить с газончика перед домом (надо же, тут до сих пор лето) влажный и такой весь недавно вылезший из земли листик хрена, отщипнуть себе приличный кусман, смять в руке, поднести к лицу, понюхать.
Смешное слово – «понюхать». Но разве бывает ещё когда-нибудь столько запахов, как поздней осенью (впрочем, не такой уж и поздней), когда картошка давно выкопана, на оголившейся земле покоятся царственные оранжевые тыквы, и пахнет всем этим – ещё не тленом, но уже основательно настоянным на дарах осени, щедрых, как у художника Веронезе (спелая, жёлтая от подкожного жира дева подоткнула под задницу сноп пшеницы) – всем этим настоянным на дарах настоем.
Веронезе жил в торговой Венеции, у него было полно красок, венецианской зелёной особенно, вот и рисовал эти самые «аллегории» – «Весна», «Лето», «Зима» и «Осень», что-то не могу вспомнить, неужели и Зима была голая.
Так вот, когда уже никакими особенными тяготами не грозит тебе огород («растительная жизнь», как выразился писатель Олег Зайончковский), никакой заразой-картошкой, и можно расслабленно гулять по участку, приглядываясь, чему бы ещё «дать ума», не пугаясь сорняков и утреннего полива, – ходишь себе, ходишь и умиротворённо высматриваешь – ага, вот тут штакетничек неплохо б подправить, тут колья из-под фасоли пора повыдергивать и свалить под навесом до весны на просушку, а вот хренок, кстати, почему бы не выкопать, хренок, – лицемерно чмокая губами и косясь в угол (откуда всё видит и всё понимает незримый Свидетель), вздохнуть: «А то ж разрастётся, гад, всё позабъёт», типа ни секунды покоя, а на самом-то деле уже давно представляя себе спелую коричневую котлетку из трёх сортов мяса с умопомрачительно хрустящим бочком, с чесночком, перцем и, представьте, с ХРЕНКОМ – настоящим, домашним, а не с уксусно-опилочной жижей, которую продают в магазине, с настоящим белоснежным ХРЕНКОМ, который, если его неосторожно понюхать, срубает с копыт не хуже, чем Джонсон – Джонса (это боксёры такие), а уж настоящий-то хренок я делаю так: сахар, соль и уксус по вкусу, а котлетки увольте – пусть котлетки кто-нибудь другой приготовит, только чтобы вкусно было, я умоляю!
Так вот, сорвёшь этот листик (дело снова происходит в Москве), помнёшь в лапе, поднесёшь к лицу в некотором сомнении или страхе – вдруг не пахнет, но он ПАХНЕТ, и сразу вдруг как пахнёт на тебя всей вышепрожитой жизнью, и совершенно благостный прошагаешь в полусне половину пути к метро, пока не окажется, что листик-то уже согрелся и умер и повис бесполезной, задохнувшейся у тебя в руке тряпочкой.
Хороша ты, растительная жизнь! Много в тебе… укромных мест в этом звуке.
Олег Зайончковский написал книжку «Сергеев и городок». Что за городок. Автор говорит – «собирательный образ». А я думаю – Хотьково это, Хотьково. Сергиев-Посадский район. Двадцать две тысячи жителей. Четыре железобетонных моста. Покровский монастырь. Два завода. А когда-то деревня была, землю пахали. Но Москва близенько – вот и повадился урбанизироваться народец: торговлишку завели, пашни запустили, потом завод на них выстроили, то-сё, и не городские теперь (всё на виду), но и не деревенские (отчуждённый механический труд, приключения прибавочной стоимости), маргиналы, стало быть. Вроде собак бродячих.
«Социология XX века описала процессы, происходящие с людьми, перемещенными из привычной, традиционной среды в новую, нестабильную, требующую специальной адаптации. Речь при этом шла либо о новой городской среде, к которой недавние сельские жители должны были приспосабливаться в процессе модернизации, либо – о новой промышленной среде, о приспособлении к промышленному труду в ходе индустриализации. Люди, выбитые в процессе индустриализации и урбанизации из привычных условий жизни, но еще не приспособленные к новым, получили название маргиналов».
Таково определение академика Александра Сергеевича Панарина из книги «Россия в циклах мировой истории», которую я подобрал в «Экслибрисе» на полу, на книжной свалке – случается, что везёт. Именно о таких маргиналах писал Михаил Елизаров в своем наполовину превосходном романе (или, если угодно, в беллетризированном памфлете) «Pasternak». Жители городских рабочих окраин, деревенская «лимита», изображены там со смесью ужаса и отвращения. По-мамлеевски, только без мамлеевского любопытства – как нечто заведомо чужое. А что именно – разбираться не хочется. Зачем понимать чужое там, где надо любить своё? Правда, этой задачи – любить – Елизаров в романе не решает. Он сделал полшага. А от ненависти до любви – шаг.
Ещё о маргиналах писал Довлатов. О нормальных таких советских маргиналах, этнически и социально перемещённых и перемешанных. Из интеллигентской семьи – в зону, из зоны – в Дом литераторов, из Дома литераторов – в деревенскую избу, из советской газеты в антисоветскую эмиграцию – и везде чужой, нигде не на месте.
И Шукшин о маргиналах писал. У него, в отличие от Довлатова, маргинальное пограничье было не привычным фоном, а центральной проблемой, требующей мучительного решения. Между деревней и городом, между пейзажем и натюрмортом, между слёзным и смеховым… Неправда, кстати, что слёзы и смех смешиваются. Грош цена была бы такому смеху и таким слезам. Нет, они не смешиваются, но чередуются в чистом виде. А наше дело – выбирать требуемое.
Главный маргинал Довлатова – это он сам. «Авторская маска», «наррататор», «эксплицитный рассказчик» – прокладка между рулём и сиденьем. Подозреваю, что о сложных взаимоотношениях Довлатова-автора и Довлатова-персонажа написаны миллионы книг. Однако если их очень сильно отжать, останется следующее: Довлатов писал не о людях, а о своём чувствовании этих людей в процессе письма. Поэтому читателя восхищают не столько наблюдаемые объекты (ситуации и характеры), сколько наблюдательность наблюдателя. И в конечном счёте – сам наблюдатель. Отсюда культ Довлатова как лучшего прозаика и человека времён и народов. Культ совершенно незаслуженный, но естественным образом спровоцированный творческим методом Сергея Донатовича. Он сам так искренне и мило (обаятельно, иронично, самокритично, самоубийственно) себя любит, что не разделить с ним его чувство почти невозможно. Читатель не замечает расставленных сетей, полагая, что сам дотумкал, какой же этот «образ автора» обаяшка. Но нет, не сам.
У Шукшина всё наоборот. Автора в рассказах почти не видно, как режиссёра в кадре. Изредка проскочит нервная, на грани блатной истерики, интонация (лучше всего знакомая нам по Егору Прокудину из «Калины красной»), и всё, пожалуй. Больше об авторе, каков он, плох или хорош, сказать нечего. Зато интонация эта (часто раздражающая – не то блатная, не то жлобская) возникает периодически. И всегда в одинаковых ситуациях. Когда шукшинский герой (а вместе с ним сам Шукшин) не может защитить своей правды. Когда его не понимают (не любят). Когда он сам в себе не уверен. Был уверен, а от чужого непонимания вроде как истончается, тает…
Вспоминается статья Бродского, использованная впоследствии в качестве предисловия к первому довлатовскому трёхтомнику. Речь в ней шла о том, что советские интеллигенты были куда более рьяными индивидуалистами, чем даже американцы, и что Довлатов сумел как никто другой выразить эту индивидуалистическую картину мира. Возможно, именно с той статьи, с этого её тезиса началась раскрутка довлатовского культа в освобождённой от пут коммунофашистского коллективизма России – сочли полезным.
Так вот, индивидуалисту не опасны «Другие», даже когда он, кокетничая, называет их «адом». За прочными бастионами шизоидного сознания индивидуалист делает с «Другими» что хочет. «Текст» лечит его от слабости. От страха своего несуществования, своей несущественности, своего бессилия перед «Другими».
Боль несуществования (несущественности) очень характерна для героев Шукшина. И они не бегут от неё. Их правда не желает быть в резервации раздутого до размеров вселенной «я». Она хочет достучаться, доковыряться до других. Уже без кавычек, потому что шукшинские другие, в отличие от довлатовских, реальны.
Нельзя сказать, что шукшинский герой себя не любит. Скорее он не помнит себя. Поэтому, не задумываясь, испытывает себя на излом, раз за разом подвергает себя сомнению, лезет на стену. В этом его коренное отличие от стремящегося к онтологической определённости героя Довлатова.
Существуют ли «Другие» сами по себе? Если да, то налагает ли их существование на меня какую-либо ответственность? Проще говоря – должен ли я с этим считаться? Если должен, то означает ли это, что «Другие» существуют уже не сами по себе, а со мною, во мне или за счет меня? Если да, то налагает ли это на них какую-либо ответственность? Если да, то возможно ли тогда вообще говорить о «Других»?
Существует ли зазор между нравственностью и творческим методом?
Между «идеей человека» и жанром, между авторской и личной позицией?
Довлатов сочувствует своим персонажам, но не любит их. Можно сострадать замерзающему нищему или больной собаке, можно даже что-то сделать для них – всё равно они останутся снаружи, вовне, за тонкой плёнкой вашей самости. Не «превратятся» в вас. Другое дело, если обнаруженная на улице замерзающая лишайная собака – это ваша потерянная месяц назад любимица. Или представьте себе скрючившимся на автобусной остановке человека, которого вы тихо и безответно любили всю свою жизнь. На несколько лет пропал из виду, думали уехал, а теперь – вот, сидит. Грязный, умирающий и, кажется, порядком вонючий.
Самое ужасное, что из этой ситуации существует миллион выходов. Например, заплакать и пойти напиться (повеситься). Или, прикрывая лицо, принести термос с горячим чаем. Или забрать домой, выходить, женить на себе. Или продать квартиру, чтобы оплатить его карточный долг чести или что там. В конце концов каждый из нас поступит определённым образом. Это и будет наш «творческий метод», наша «идея человека», наш жанр, наша позиция.
Одно кажется совершенно точным: без любви невозможна «предельная ситуация». Когда не отступиться. Либо любовь – либо предательство. Пройти мимо чужого нищего – не предательство, раз нет любви. Так вот, у Довлатова таких предельных ситуаций-то и нет. Он просто не допускает их. Он всегда, в любой ситуации принадлежит себе, своей «трезвой памяти». Его герою можно, прикрываясь депрессией, бросить жену и ребенка, а потом снова вернуться к ним. Центр всё равно будет не там, не в этом поступке, а в страдающей и самостоятельно казнящей себя душе героя. Герой совершенен. А жена и ребёнок – хрен осенью. На крайний случай у героя есть самоирония.
…Давайте вообразим, как Довлатов написал бы шукшинский рассказ «Раскас». Вполне довлатовская заготовка сюжета, в духе «коммунисты нашей фермы выбрали меня своим членом». От шоферюги Ивана Петина ушла жена. Он излил душу на бумаге, назвал эту корявую исповедь «раскас» и принёс в редакцию районной газеты. «Чтоб она прочитала». Бедняга редактор силится объяснить Ивану, что «так не пишут». Гуманно предлагает помощь: «Давайте вместе, от третьего лица…» Иван машет рукой и направляется прямиком в чайную.
Вероятно, Довлатов посадил бы на место гуманиста-журналюги себя. И тогда пафос рассказа получился бы такой: сострадательная ирония. Дескать, ну что поделаешь… Печальный мир, даже когда цветёт вишня! А за этим неизбежно маячит: «Уржаться». Чем лучше тонко чувствующий герой Довлатова понимает и «прочитывает» Ивана, тем меньше остаётся самого Ивана как живой и тоже чувствующей мир личности. «Объективирование субъекта».
У Шукшина по-другому. Его комические персонажи не смешны, романтические не серьёзны. Сопереживая «молодому Ваганову», нельзя не замечать его наивности, неуклюжего самодовольства, сочувствуя «чуткому» Алёше Бесконвойному, нельзя не сочувствовать и его «нечуткой» жене. То есть мы сочувствуем и Алёше, и его жене – за то, что сами-то они друг друга не понимают, не справляются с этим без нас, чтобы понять их и примирить – живые мы нужны.
Тут можно вспомнить Бахтина с его диалогом, осуществляющемся при посредничестве свидетеля-«третьего», но хочется сказать совсем про другое. Про какой-то надлитературный смысл того, что человек – это когда много людей. Ну вот переправа через Днепр, Вторая мировая война. Эти кадры часто показывают в кинохронике. Густо вспухает взрывами вода, люди на плотах, кажется, обречены. А всё гребут, всё плывут куда-то, где их поджидает не эта, так какая-нибудь другая смерть. Зачем?
Ни за чем. Все побежали, и я побежал. «Так надо было».
Один человек думает и поступает не так, как много людей. Одному быть красиво, потому что никто не истолкует твою грусть-тоску некрасиво, неправильно, в душу не плюнет, не посмеётся. Но когда плохо, нужно идти к людям, а то станет ещё хуже. Бог есть. Россия – наше Отечество.
(прозванный за простоту Василичем)
КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА
Прост как правда — Лев Пирогов
(прозванный за простоту Василичем)
Прочел “Хочу быть бедным”. Хорошо, что я не читал Пирогова раньше. Мешает писать. (А вы читайте-читайте.)
Кароче. Как и было сказано. Критика стала прозой, проза стала поэзией, а поэзия стала прикладной психотерапией. Пирогов — это и есть нормальная проза. А то, что канает за прозу, это как в балете там, ноги в третьей позиции, фуэтэ, падеде.
Статьи правельно трихотомированны: о лит-ре, о Бытии (т.е. геополитике) и “бытие мое”. Обзоры ЖЖ-бесед. Хорошо.
Статья оканчивается немного раньше, чем это хочется читателю, сопли повисают в воздухе. Остатки от статьи, которые-таки были, были, вынесены под видом дневника охвостьем, чтоб добро на мельницу.
Чорана цитирует, “хайдеггера” с “ходорковским” не путает, умные слова знает даже в большей степени, чем то дозволяется начальством. И по-украински приводит, с небольшими ошибками, для смеху. Прям как я в молодости.
Чистит себя под Шукшиным Лев Пирогов. Как он обернул оценки Глеб Капустина! Потому что затарено все предыдущими оценками, рынок, бл, рынок (не воровал я. ). Стада идиотов сейчас откочевали к либералам, поэтому теперича красиво быть с почвенными. Потом, когда идиоты тему просекут, то перебегут к нам, а мы перебежим обратно. Хотя тут еще погрешность от курса долара (ефимка амерского). Может, долго не качнет. Пишет Лев Василич слишком уж понятно, что даже как бы душевно. Душевность инда дает отдельно (как главный друг критиков учил: “котлеты отдельно, мухе отдельно”), инда вперемежку. Парадокасы (“противоположные общие места”) у Льва Василича хорошие, типо: “бойтесь неравнодушных, это с их молчаливого согласия…” Дальше неинтересно.
Как другой Лев в “Детстве” о своем папе писал: “Он говорил очень увлекательно, и эта способность усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость”. (Чуть не написал “милую подлость”.)
5 раз упомянута Жанна Фриске.
А в конце статусквятинки подпустить.
(А я сижу-пишу… Потом чота погуглил по Пирогову, статью Петрова-Лобаза о нем нашел, нашол раннего Пирогова. Ну, думаю, как Чичиков, пропал. А потом непщевахом, сем-ка я… Ищу рукавицы, а они за поясом. Все забыть забыли сто раз, кто там серебреные ложечки скомуниздил.)
О чем пишет Лев Пирогов?
Он пишет о том, что надо быть проще. О том, почему свобода выбора — и не свобода и не выбора. Почему маркиз де Сад — ум, честь и совесть французского народа. О том, что надо Россию подморозить, чтоб не слишком подгнила (нордическое). О том, что тоталитаризм — хорошо. Что фантасты плохо пишут. Что в гопниках скрыта великая сермяжная правда. Гришковца раньше лучше делал Петр Мамонов. Маканин с “Асаном” лажанулся. Довлатов “сам так искренне и мило (обаятельно, иронично, самокритично, самоубийственно) себя любит, что не разделить с ним его чувство почти невозможно”. (Пора Донатыча убирать, надоел.) “Русская классическая литература — это жанр”. Емелин — хороший поэт. Постинтеллектуализм и Розанов. (“Постинтеллектуализм” — это “заумь”, “поумь” или “опосляумь”. ) Бытие. Время. Иногда фильмец посмотрит, комментнет, на выставку сходит, на лыжах покатается, на премии отчудит. Шишкин — плохой писатель. Юрий Поляков — хороший писатель. Песни Чижа написал Чернецкий. “Но поскольку Чернецкий лежал в кровати парализованный, а у Чижа сексуальный голос, прославился Чиж”. Что такое счастье. О том, как пить водку. Про необитаемый остров и сколько топоров и комплектов гвоздей туда брать. Бичи с бомжами выживут, а мы все умрем. Александр Морев — плохой хороший писатель. Александр Иличевский — хороший плохой писатель. Пелевин — почвенник. Лямпорт, по Окуджаве, в сущности прав. Кто написал “Тихий Дон”, неважно, главно, книга хорошая. “Новый реализм” — это хорошо, правильно, так и надо. “Проблем, сути которой нельзя объяснить гопнику или ребенку (а также вашей бабушке), не существует. Если у вас есть идея и вы хотите, чтобы она овладела массами, не пишите серьезной литературы. Пишите интересно, просто, полезно. По-детски.
Писатели считают, что литература — это их “самовыражение”, за которое их надо любить. Как дети малые, честное слово. Нынче все хотят быть детьми. Всем подавай, чтоб их любили. И никто не хочет любить других. Патовая ситуация, круговая антипорука.
Любить другого — значит дать ему возможность побыть ребенком. Ну, хочет женщина наивная, неиспорченная, чтобы в искусстве показывали “что в жизни бывает”, ну так и покажите ей! Заодно хоть сами узнаете…”
В общем-та, все это и без Пирогова знали, но Пирогов это все излагает хорошо и “заставляет задуматься”, так сказать. А вообще Пирогов уверенно эволюцанирует, чтоб писать длинные, нудные, тягомотные статьи в будущем.
Квандоквэ дрыхнет и доблестный Пирогов.
Вот пишет Пирогов: “Тишина бях” — ну что же это вы, Лев Василич. Мы все читали Колядину, слава Букеру. И точно знаем, что тишина может быть либо “бе” через “ять”, либо “бысть”, как у той же Колядиной написано.
А старика Прилепина поддевает — “полные водкой”, дескать, что это за безабразие. Но поддевает мягко, оставляет пространство для отхода. Потому что знает, что и родительный, и творительный мона, и так, и так. А сам-то Лев-от Васильевич глагол “взалкать” спрягает-то не твердо. “Взалкаете” или “взалчете”. То-то что “взалкаете”. Это где лиргерой Льва Василича (или сам Лев Василич, я их че-т с трудом различаю), который бухает итд., возжелал солянки на трассе Москва-Ростов. Любит про еду писать и про аперитивы. На контрасте работает. Дескать, пью водку и ем солянку, а тем временем внутри своей головы вселенную уловляю. “Чисто простые пацаны”, как говаривал Шнур по иному поводу.
Или малых сих обидел походя, офисных: “Клерк в мажорном автосервисе записал в сопроводительный лист: “Скрежит с лева и с переди”. Боюсь, от этого и починят. Как страшно жить”. — Лев Василич, вылезло-то гнилое либеральное нутро, а. Я-де тут уже матом перестал ругаться, а они там еще писать грамотно не научились, а. Так, Лев Василич, это вас в школе учили неправильно, а офисный все правильно написал: предлоги с наречиями только потом слиплись, и в слове “скрежет” явственно слышно “ь”.
Вот у него ограбляемые на гоп-стоп поляки кричат: “Родаки!” Это какие-то неправильные поляки, и отграбленная у них рухлядь тоже неправильная, бо правильны поляцы кричат “Родацы. ” Ведь работает же у Полякова в “Литературке”, должен знать.
Вот предшественник Пирогова по критической линии Иван Васильевич Рюриков (более известный под погонялом “Царь”) по-старобелорусски правильно спрягал (см. второе послание Стефану Баторию, кстати, родной дядя графини Бэтори, той самой). “Почто, царю, силных во Израиле побил еси?” — вопрошает Грозного Курбский. “Ты чего для понял стрелетцкую жену?” — парирует Грозный. “Срезал”, натурально “срезал”! Курбскому не остается ничего, кроме как в бессильной злобе колобродить у себя на Гомельшчыне.
Дальнейшее развитие темы “Грозный — Розанов — Пирогов” отдаю на откуп филологическим девочкам. Готов консультировать (за умеренный бартер). Главное, что все трое “Васильевичи” (сынки!!), а это дорогого стоит.
Учитесь любить Родину и делать критику у Льва Пирогова.
Лев Пирогов о жёнах Шукшина и торжестве мещанства

Вышла книжка: «Литературная матрица: Советская Атлантида» — там нынешние поэты и писатели (живые) пишут о поэтах и писателях прошлого (мёртвых). Мне она понравилась, даже очень. Просто удивительно, сколько годных мыслей оказалось в головах у некоторых наших писателей и поэтов!
С некоторыми из них даже можно было б поговорить — на кухне, с пепельницей и бутылкой, далеко заполночь (потому что другим способом о таком обычно не разговаривают), если бы мы, критики, имели бы такую дурную привычку — разговаривать со своими персонажами. (Это всё равно, что с голосами в голове водку пить.)
В этой удивительной книжке Михаил Елизаров написал про Гайдара, Сергей Шаргунов — о Серафимовиче, а Всеволод Емелин про Вознесенского. Стало интересно: что бы сказал Вознесенский о Емелине? А Гайдар о Елизарове? Не о том, что Елизаров написал про него, а вообще. Про «Кубики», «Ногти» и «Красную плёнку».
Но к этому, дай Бог, мы ещё вернёмся, а начал-то я книжку читать с Шукшина, конечно.
Алексей Варламов пишет о Шукшине. Спокойно, предсказуемо, правильно. Дескать, болел душой, верил в народ… Читаю и согласно киваю головой: так, так… И кивки постепенно превращаются в клевки носом. Хр-р, хр-р-р…
Единственная Лёшина мысль, претендующая на остроту, танцует от дневниковой шукшинской записи: «Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии — женщина».
На нескольких страницах Варламов пытается рассуждать о шукшинской мизогинии, но как-то осторожно, поверхностно, не внадых. Он не «опускается», например, до подсчёта шукшинских женитьб и классификации жён, а это очень бы оживило тему.
Первая деревенская жена была, что называется «из кулацкой семьи». Крепкие хозяйственники, с традициями, всё в дом, «работать», хозяйство крепить. Сбежал сразу после свадьбы. О второй можно судить по раздаваемым ею сейчас интервью. Мелочная, ревнивая, злопамятная, завистливая. Третья за Барри Алибасова из «На-Ны» вышла. Что тут ещё скажешь. Породистых выбирал Василий Макарыч женщин. Чтобы за натурой далеко не ходить.
Представляете — женился на своих отрицательных персонажах! На этих, балалайку и микроскоп отбирают которые. А если вдруг не отругают за купленные не по ноге сапожки, то получится самый, может быть, светлый, самый «райский» рассказ Шукшина — о Божьем чуде.
Кстати, сам Шукшин тоже был своим собственным персонажем. Если б не сбежал в Москву от первой жены, стал бы непутёвым зятем при крепком хозяйстве, «чудиком». Писал бы по ночам в тетрадку трактат, как организовать жизнь общества по подобию муравьёв, или сочинял в сараюшке из велосипедного колеса вечный двигатель. Люди под хорошее настроение жалели бы его, а так — сторонились.
Но он удрал, поступил нехорошо (и всю жизнь потом оправдывался за этот грех образами жён-мещанок, губящих в себе и вокруг себя всё живое), удрал — и выжил, приспособил к делу своё чудачество.
У каждого из нас есть несбывшаяся жизнь, есть другой путь, по которому мы могли бы пойти, «если бы». И некоторые люди чувствуют того другого себя, которым они могли бы быть, и даже иногда по нему тоскуют — как по оторвавшейся половинке души.
Главная ошибка Варламова — он пишет о Шукшине с бережной и уважительной интонацией. А так обычно пишут о писателях умеренного таланта. Вероятно, Варламов втайне полагает талант Шукшина, этой священной коровы всех тех, кто «думает о России», умеренным.
Не написать про думающего о России писателя, что он думал о России, — уже смелый ход. Высвободившееся время и место можно неожиданно потратить на размышления о его литературных достоинствах. А то у нас обычно думанье о России гарантировано выводит писателя за рамки эстетики. То ли он выше этого, то ли ниже, поди пойми.
Если бы Алексеем Варламовым был я, я бы не нагнетал духовность (это приводит к обратному результату), а заметил бы, что рассказы Шукшина похожи на лубок, комикс, карикатуру. Это рассказы-анекдоты. Простые, внятные, яркие. Часто смешные. Обыденная жизнь в его рассказах всегда немножечко экзотична, остранена за счёт чудинки героя или необычности обстоятельств. Он не пишет «вообще про жизнь». Всегда — в связи с каким-то случаем. «А вот случай был…» Обтанцовывает текстом конкретное действие, поступок, рассуждает мало. Много показывает.
Кто ближе всего к Шукшину из классиков?
Казалось бы, как просто. Но почему-то раз-два и обчёлся охотников повторить. Странно, что у Шукшина, такого литературно успешного, не появилось подражателей и последователей. Он стал популярен, но не стал моден у профессионалов чтения и письма. Может, простоватое лицо тому виной, может, социальная чуждость его героев. «Русский шансон», фу. Пиши он про «интеллигенцию» — быть бы ему святыней типа Довлатова или Бродского. А так…
Известен, между тем, факт: русские плохо пишут. По сравнению с англосаксами, например. Неряшливо, тяжело, неинтересно. Слишком интроверсивно. Неплохо пишут евреи: например, Акунин, Улицкая, тот же Довлатов. Но тут другая беда: смыслы у них грошовые, а чувства целлулоидные для русской литературы.
У кого учиться юному беллетристу?
Если б я желал им добра, я бы сказал: дети, учитесь у Василия Макаровича Шукшина. Если технику его поймёте и научитесь её воспроизводить, большой успех можете поднять для России с пола.
А думать о ней — это сейчас не главное. Этим многие занимаются, только вот толку нет.
Следом за Шукшиным сразу стал про Трифонова читать. Трифонов второй после Шукшина по интересности для меня писатель.
У него тоже было три жены.
Пишущий о нём Андрей Левкин заметил интересную вещь: сам Трифонов — типичная «элита» и по происхождению и по образу жизни: Сталинская премия, ресторан «Баку», с Твардовским общий забор, сам Михаил Андреич Суслов судьбу решает (а Трифонов его не боится). Жёны опять же такие замечательные: одна оперная певица, померла, он сразу на второй — ж-жух. (молодец, некоторые не дожидаются), на тоже очень хорошей, культурной женщине, редакторе серии «Пламенные революционеры»; третья тоже очень хорошая жена, борец с тоталитаризмом и самопровозглашённый историк — силой мысли подсчитывает аборты Надежды Аллилуевой, насчитала уже не то семнадцать, не то восемнадцать штук, такая у неё редкая десталинизаторская специализация…
К делу это, правда, отношения не имеет. Герои трифоновских «московских повестей» тоже своего рода элита: артистки, переводчики, научные работники, дачи-машины, дом-на-набережной… Даже квартира на Профсоюзной — это тоже, знаете, квартира на Профсоюзной. (Я уж не говорю, когда на Песчаной). В общем, по меркам большинства трифоновских читателей, его герои — тоже элита. Почему же вместо классового чутья читатель проявляет по отношению к ним понимание и любовь? Почему не брезгует этими корчащимися, рефлексирующими, мнительными, обидчивыми, бессильными?
(Хм, ну а почему не брезгует зритель главным героем кинофильма «Афоня»?)
И знаете, она меня увлекла. Хотя сначала я, конечно, обхохотался. Вот ведь, какие мы с Левкиным разные люди! Я-то молодым, помню, наоборот — делал зарядку, курил кубинские, пил с послеобеда до утра и не спамши шёл опять на работу. А сейчас — в магазин за хлебом сходил — и нет сил. Где присел, там и клюю носом. Жена смеётся, стыдно перед ней, а всё равно клюю — усталость. Хроническая. Очевидно, она у меня по тем же причинам, что и у Левкина была при СССР. От социального пессимизма.
Тогда всюду был порядок, серый бетон, асфальт, и Левкин (как все умеренные таланты) понимал, что при нём ему не разростись. А сейчас плюрализм, свобода, равноправно цветут все левкины, но настоящим титанам (вроде меня), способным проломить башкою асфальт и раскрошить корнями бетон, от этого досада одна. Когда всем всё можно, нам, титанам, ничего не хочется.
Но Левкин, тем не менее, прав. В книжках Трифонова привлекает именно нечто такое, размытое. Я бы сказал так. Его мессадж прочитывается следующим образом: «У слабого человека не хватит сил на подлость, а значит, мы слабые, мягкотелые, ленивые (усталые — в транскрипции Андрея Левкина) советские интеллигенты — самые неподлые, самые приемлемые разновидности. Как демократия, у которой миллион недостатков, но люди не придумали ничего лучше».
Парадоксальным образом, «литература усталости» вселяет силы, заставляет расправить плечи. Это литература социального оптимизма для тех, кто не способен на социальный оптимизм. Социальный оптимизм для людей слабой (в силу чрезмерной сложности) душевной организации. Социальный оптимизм для тех, кто был обделён мифологией социального оптимизма. Про геологов писали, снимали, пели? Про шахтёров, лесорубов, шофёров? Врачей, военных, учёных-ядерщиков? Да, было.
И все-то они были выдающиеся, особые, очень нравственные, очень талантливые, очень нужные государству и миру. Все чем-нибудь жертвовали: здоровьем, жизнью, благосостоянием, несознательной невестой…
А про нас, ничем никуда не выдающихся и, главное, ничем не желающих жертвовать редакционных червей, переводчиков с кумыкского, пятых скрипок в оркестре? Только второстепенные сатирические роли с обличительной ноткой. Мол, если не герой, то говно. А мы ведь тоже хотели жить. У нас тоже была мама.
Кто, кроме Трифонова да Эльдара Рязанова замолвил о нас, бедных слово?
Но уж когда замолвили — мы были так рады, так благодарны, что сходу посчитали (и искренне) это слово сверхталантливым. Трифонова, уютного писателя про Ипполита из фильма про Женю Лукашина, мы назначили чуть ли не Достоевским. Нашим мещанским Достоевским.
У мещанства есть как минимум два извода: нижний и верхний слой. Нижний — это те, кого издевательски воспел Зощенко. По-старому, это были бы чиновники нижних рангов, зажиточные рабочие и мастеровые, мелкие купчишки. Верхний слой — это среднее и крупное купечество, о котором писали Островский и Горький, «тёмное царство», самый адский ад, пьеса «Мещане». При советской власти эту нишу заняли потомки революционеров, перебравшихся на Арбат из Шепетовки. К трифоновским временам они сплошь позащитили диссертации и сами себя называли интеллигенцией. Но по происхождению, по культурной инерции, по занятому ими святу месту это были мещане. Никак не интеллигенция, хотя кое-чему (например, нелояльности к власти) они у интеллигенции научились.
Подсознательно они сами чувствовали себя мещанами, и понимали, что фильмы про самоотверженных физиков и врачей — не совсем о них. А многочисленные обличающие мещанство советские сатиры, наоборот, как бы слегка про них. И это подспудно раздражало. От этого тоже накапливалась «усталость».
Частная жизнь невыдающегося городского человека, живущего не общей советской, а своей особой сословной жизнью, никем не была прочувствована и понята, никому не была интересна. Их игнорировали — как игнорируют в сегодняшнем искусстве людей труда. А Трифонов приметил, и за это мещане ему по гроб благодарны.
Даже сегодня благодарны, когда изменчивый мир, как и было обещано, под них прогнулся.
Давайте, кстати, вспомним теперь ещё раз ту шукшинскую дневниковую запись, которую процитировал Алексей Варламов: «Эпоха великого наступления мещан…»
Хрен осенью. Между Шукшиным и Довлатовым
А то с утра прихватить с газончика перед домом (надо же, на нём
до сих пор лето) влажный и такой весь недавно вылезший из земли
листик хрена, отщипнуть себе приличный кусман, смять в руке, поднести
к лицу и понюхать.
Смешное слово – «понюхать». Но разве бывает ещё когда-нибудь столько
запахов, как поздней осенью (впрочем, не такой уж и поздней),
когда картошка давно выкопана, на оголившейся всеми своими тайными
обителями земле покоятся царственные оранжевые тыквы, и пахнет
всем этим ещё не тленом, но уже основательно настоянным на дарах
осени – щедрых, как у художника Вазарели (спелая, желтая от подкожного
жира тёлка подоткнула под жопу снопы пшеницы) – настоем. Вазарели
жил в торговой Венеции, у него было до фига красок, а венецианской
зеленой он просто сортир обклеивал, вот и нарисовал эти самые
«аллегории» - ВЕСНА, ЛЕТО, ЗИМА и ОСЕНЬ, что-то не могу вспомнить,
неужели и Зима была голая.
Так вот, когда уже никакими особенными напрягами не грозит тебе
огород (растительная жизнь, как выразился писатель Олег Зайончковский)
никакой сукой-картошкой, и можно расслабленно, по-помещицки, прогуливаться
«по участку», приглядываясь, чему бы ещё «дать ума», не пугаясь
сорняков (раком не выдёргивать) и утреннего полива (в пять утра
не вставать) - ходишь себе, ходишь, и умиротворённо высматриваешь
– ага, вот тут штакетничек надо подправить, тут колья из-под фасоли
повыдергивать и свалить под навесом до весны «на просушку», а
вот хренок, кстати, почему бы не выкопать,
и льстиво (то есть, э-э-э, лицемерно) чмокая губами и косясь в
угол (откуда всё видит, всё знает Бог) лицемерно вздохнуть: «А
то ж разрастется, гад, всё позабъёт», типа ни секунды покоя, а
на самом-то деле уже давно представляя себе спелую коричневую
котлетку из четырех сортов мяса с нечеловечески хрустящим бочком,
с чесноком, перцем и, представьте, с ХРЕНКОМ – настоящим, домашним,
а не с уксусно-опилочной жижей, которую продают в магазине, с
настоящим БЕЛОСНЕЖНЫМ ХРЕНКОМ, который, если его неосторожно понюхать,
срубает с копыт не хуже, чем Джонсон - Джонса (это
боксёры такие), а уж настоящий-то хренок я делаю так:
а котлетки увольте - пусть кто-нибудь другой приготовит, только
чтобы вкусно было, я умоляю!
Так вот, сорвешь этот листик (снова в Москве), помнёшь в лапе,
поднесешь к лицу в некотором сомнении или страхе –
а вдруг не пахнет,
но он ПАХНЕТ, и сразу вдруг как пахнёт на тебя всей вышепрожитой
жизнью, и совершенно благостный прошагаешь в полусне половину
пути к метро, пока не окажется, что листик-то уже согрелся и умер,
и повис у тебя в руке бесполезной зелёной тряпочкой…
Хороша ты, растительная жизнь! Много в тебе… укромных мест в этом
звуке.
Олег Зайончковский. Сергеев и городок. - М.: ОГИ-проза, 2004
У этой книжки внешность разведчика. Двести человек из ста пройдут
рядом и не заметят. Сергеев – это фамилия? А что такое «зайончковский
городок».
Автор говорит, «собирательный образ». А я думаю, Хотьково это,
Хотьково. Сергиев-Посадский район. Двадцать две тысячи жителей.
Четыре железобетонных моста. Покровский монастырь. Два каких-то
завода. А когда-то деревня была, землю пахали. Но Москва близенько…
Вот и повадился урбанизироваться народец: торговлишку завели,
пашни позапустили, потом завод на них выстроили, то-сё, и не городские
теперь (всё на виду), но и не деревенские (отчуждённый механический
труд, приключения прибавочной стоимости). Маргиналы, стало быть.
Вроде собак бродячих.
«Социология ХХ века описала процессы, происходящие с людьми,
перемещенными из привычной, традиционной среды в новую, нестабильную,
требующую специальной адаптации. Речь при этом шла либо о новой
городской среде, к которой недавние сельские жители должны были
приспосабливаться в процессе модернизации, либо - о новой промышленной
среде, о приспособлении к промышленному труду в ходе индустриализации.
Люди, выбитые в процессе индустриализации и урбанизации из привычных
условий жизни, но еще не приспособленные к новым, получили название
маргиналов».
Определение академика Александра Сергеевича Панарина из книги
«Россия в циклах мировой истории». Именно о таких маргиналах писал
Михаил Елизаров в своем наполовину превосходном романе (или, если
угодно, в беллетризированном памфлете) «Pasternak». Жители городских
рабочих окраин, деревенская «лимита», изображены там со смесью
ужаса и отвращения. По-мамлеевски, только без мамлеевского любопытства
– как нечто заведомо иное, чужое. А что именно – разбираться не
хочется. В этом и состоит мало
кем понятая правда Елизарова: иное должно быть с негодованием
отвергнуто. Пафос елизаровского романа состоял в следующем: не
нужно понимать то, чего понимать не хочется. Чужое оно (ценность,
человек, мысль, эмоция) – и пусть будет чужое. А то, если всё
опять понимать, опять плюрализмы начнутся, опять релятивизмы,
опять «постмодерн – ступор модерна»… Зачем понимать чужое, там
где надо любить своё? Правда, с этой задачей – любить – Елизаров
в романе не справился. Он сделал полшага. А от ненависти до любви
– шаг.
Еще о маргиналах писал Довлатов. О нормальных таких советских
маргиналах, этнически и социально перемещённых и перемешанных.
Из интеллигентской семьи – в зону, из зоны – в Дом литераторов,
из Дома литераторов – в деревенскую избу, из советской газеты
в антисоветскую эмиграцию – и везде чужой, нигде не на месте.
И Шукшин о маргиналах писал. У него, в отличие от Довлатова, маргинальное
«пограничье» было не фоном, а центральной проблемой, требующей
мучительного нравственного решения. Между деревней и городом,
между пейзажем и натюрмортом, между слёзной и смеховой эстетиками.
Неправда, кстати, что слёзы и смех «смешиваются». Грош цена была
бы такому смеху и таким слезам. Нет, они не смешиваются, но чередуются
в чистом виде. А наш долг (или талант) – выбирать.
Главный маргинал Довлатова – это он сам. «Авторская маска», «лирический
герой», «наррататор», «рассказчик» – прокладка между текстом и
автором. Подозреваю, что о сложных взаимоотношениях Довлатова-автора
и Довлатова-персонажа сказаны миллионы научных слов. Однако если
их очень сильно отжать, останется следующее: Довлатов писал о
себе. Не о людях, а о своем чувствовании людей. Поэтому читателя
восхищают не столько сами наблюдаемые объекты (все эти подмеченные
или придуманные ситуации и характеры), сколько наблюдательность
наблюдателя. И в конечном счёте – сам наблюдатель. Отсюда культ
Довлатова – как чуть ли не лучшего прозаика поколения. Культ совершенно
незаслуженный, но естественным образом спровоцированный творческим
методом Сергея Донатовича. Он сам так искренне и мило (обаятельно,
иронично, самокритично) себя любил, что не разделить его чувство
было почти невозможно. Читатель не замечает расставленных сетей,
полагая, что он сам открыл, какой же этот «образ автора» обаяшка.
Повторяю: речь идет о творческом методе, а не о характере Довлатова-человека.
У Шукшина все наоборот. Автора в рассказах не видно, как режиссера
в кадре. Шукшин делает «не авторское» кино. Изредка проскочит
нервная, на грани блатной истерики, интонация (хорошо знакомая
нам по Егору Прокудину из «Калины красной»), и это, пожалуй, всё.
Впрочем, интонация эта (подчас весьма раздражающая – «бычья»,
«жлобская») возникает периодически. И всегда в одинаковых ситуациях.
Когда шукшинский герой (а вместе с ним сам Шукшин) не может доказать
своей правоты. Когда его НЕ ПОНИМАЮТ. Когда он сам в своей правоте
не уверен. То есть уверен, но от чужого непонимания она вроде
как истончается, тает. Меня становится меньше, когда я сталкиваюсь
с «Другим».
Вспоминается статья Бродского, ставшая впоследствии предисловием
для первого довлатовского трехтомника. Речь в ней шла о том, что
советские интеллигенты были куда более рьяными индивидуалистами,
чем даже американцы, и что Довлатов сумел как никто другой выразить
эту индивидуалистическую картину мира. Подозреваю, что именно
с той статьи началась повсеместная раскрутка довлатовского культа
в «Новой России» – сочли полезным. Так вот, индивидуалисту не
опасны «Другие», даже когда он, кокетничая, называет их «адом».
За прочными бастионами шизоидного (по Рональду
Лэнгу) сознания индивидуалист делает с «Другими» что хочет.
Вплоть до сорокинской «расчленёнки». Индивидуалисту уютно внутри
текста – оттуда он способен отразить любые посягательства реальности
на свою правоту и своё совершенство. «Текст» лечит его от боли.
Не от эмоциональной (которой, например, пронизан довлатовский
«Заповедник»), такая боль индивидуалисту не страшна, напротив,
он склонен искать её и лелеять, – от боли онтологической. От боли
своего несуществования, своей несущественности, своего бессилия
перед «Другим».
Перефразируя Паниковского, «а я кто такой?!»…
Эта боль очень характерна
для героев Шукшина. И они не избегают её. Они не автономны, не
«свободны от общества», их правда не может существовать в резервации
раздутого до размеров вселенной «я». Она существует для того,
чтобы ее узнали другие. Уже без кавычек, потому что шукшинские
другие, в отличие от довлатовских, безусловно реальны, они есть.
Только достучаться до них непросто.
Нельзя сказать, что шукшинский герой себя не любит. Скорее он
не помнит себя. Поэтому, не задумываясь, испытывает
себя на излом, раз за разом подвергает себя сомнению, когда актуализирует
существование неподатливого Другого. В этом его коренное отличие
от стремящегося к онтологической определённости героя Довлатова.
Существуют ли «Другие» сами по себе? Если да,
то налагает ли их существование на меня какую-либо ответственность?
Проще говоря – должен ли я с этим считаться? Если должен, то означает
ли это, что Другой существует уже не сам по себе, а со мною, во
мне или за счет меня? Если да, то налагает ли это на него какую-либо
ответственность? Если да, то возможно ли тогда вообще говорить
о «Других»?
Существует ли зазор между «творческим методом» и нравственностью?
Между «идеей человека» и личной позицией?
Довлатов сочувствует своим персонажам, но не любит
их. Можно сострадать замерзающему нищему или больной собаке, можно
даже что-то сделать для них – всё равно они останутся снаружи,
вовне, за тонкой плёнкой вашей самости. Не «превратятся» в вас.
Другое дело, если замерзающая лишайная собака – это ваша потерянная
месяц назад любимица. Или представьте себе скрючившимся на автобусной
остановке человека, которого вы тихо и безответно любили всю свою
жизнь. На несколько лет пропал из виду, а теперь – вот, сидит.
Грязный, умирающий и, кажется, вонючий.
Самое ужасное, что из этой ситуации существует миллион выходов.
Например, заплакать. Или пойти повеситься. Или, прикрывая лицо,
принести термос с горячим чаем. Или забрать домой, выходить и
женить на себе. Или продать квартиру, чтобы заплатить его карточный
долг. В конце концов каждый из нас поступит определенным образом.
Это и будет наш «творческий метод», наша «идея человека», наша
нравственная позиция.
Одно кажется совершенно точным: без любви невозможна «предельная
ситуация». Когда не отступиться. Либо поступок – либо предательство.
Пройти мимо больной собаки или чужого нищего – не предательство.
Так вот, у Довлатова предельных ситуаций нет. Он просто не допускает
их. Он всегда, в любой ситуации, один. Его герою можно, прикрываясь
депрессией, бросить жену и ребенка, а потом снова вернуться к
ним. Центр всё равно будет не там, не в этом поступке, а в страдающей
и самостоятельно казнящей себя душе героя. Герой совершенен. А
жена и ребёнок за скобками. В крайнем случае, когда трудно подобрать
оправдание, выручает ирония.
Давайте представим, как Довлатов написал бы шукшинский рассказ
«Раскас». Вполне довлатовская коллизия. От шоферюги Ивана Петина
ушла жена. Он излил душу на бумаге, назвал эту корявую исповедь
«раскас» и принёс в редакцию районной газеты. Чтоб напечатали.
«Чтоб она прочитала». Редактор силится объяснить Ивану, что «так
не пишут». Предлагает помощь: «Давайте вместе, от третьего лица…»
Иван машет рукой и направляется прямиком в чайную.
Возможно, Довлатов посадил бы на место несчастного журналюги себя.
И тогда пафос такой: печальная сострадательная ирония. Дескать,
ну что поделаешь… А за этим неизбежно маячит: «Что за мучение
на мою голову!» Чем лучше тонко чувствующий лирический герой Довлатова
понимает и «прочитывает» Ивана, тем меньше остаётся от самого
Ивана как от живой всамделишной личности. Но,
возможно, рассказчик остался бы в стороне. Ну, тогда на журналюге
можно сгустить комизм – как он, бумажная душа, вертится, утирает
пот со лба, заискивает перед снёсшимся «гегемоном»… Хаханьки!
У Шукшина всё по-другому. Его комические персонажи не смешны,
романтические не совершенны. Сочувствуя «чуткому» Алёше Бесконвойному,
нельзя не сочувствовать и его «нечуткой» жене; сопереживая Молодому
Ваганову, нельзя не замечать его наивности, неловкости и самодовольства.
У Довлатова же все оценки обусловлены рассказчика - читатель,
даже когда «сам» их делает, обречен на них монологизмом довлатовской
картины мира. То есть у Шукшина мы сочувствуем и Алёше, и его
жене, потому что они-то, Алёша и жена, друг друга не понимают,
не прочитывают – просто живут рядом, привыкли… И мы с вами нужны,
чтобы понять и примирить их – сами по себе они бессмысленные,
непонятые…
Тут можно вспомнить Бахтина с его «полифонизмом» и «диалогом»,
осуществляющемся при посредничестве свидетеля-«третьего», но хочется
сказать совсем про другое. Про какой-то надлитературный смысл.
Ну вот переправа через Днепр, Вторая мировая война. Эти кадры
часто показывали в кинохронике. Густо вспухает взрывами вода,
люди на плотах, кажется, обречены. А всё гребут, всё плывут куда-то,
где их поджидает не эта, так какая-нибудь другая жуткая смерть.
Зачем?
Ни зачем. Все побежали, и я побежал. «Так надо». На миру и смерть
красна. За компанию жид повесился. Одну стрелу сломать легко,
а пучок сложно. Пучок стрел – это фасция, от которой произошло
слово «фашизм». Один человек думает и поступает не так, как много
людей. Одному быть красиво. Потому что никто не истолкует твою
грусть-тоску некрасиво, неправильно. Но когда плохо, нужно идти
к людям, а то станет еще хуже. Все люди – козлы. Россия – наше
Отечество.
Вот вокруг этого всего оно как-то вертится.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- Previous Entry
- Next Entry
- Recent Entries
- Archive
- Friends' Entries
- Profile
- Memories
МЕРТВЫЕ С КОСАМИ И ДМИТРИЙ БЫКОВ
Мы с одним моим другом любим судачить про советские фильмы. Про Женю Лукашина, про Валико Мизандари. Такие бездны вкуса находим в них! Такие хитросплетения судеб!
Конечно, это игра. Потому что – где эти фильмы, а где те бездны. Но если кто-то скажет нам, что мы занимаемся чепухой, мы, пожалуй, обидимся. Игра-то она игра, но всегда до полной гибели всерьёз для играющих.
Роман Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» – хороший, потому что заставляет задуматься.
В частности, вот о чём: а хороший ли это роман?
Обычно мы решаем этот вопрос исходя из нашего отношения к автору. Приятен человек – значит, и всё, что он говорит, правильно.
А если «неказист, волосы напомажены… лицо подёргивается, будто в судорогах или от постоянной брезгливости, кажется, ужасно злое»? Это о Достоевском. Вот ещё: «Достоевский, знаменитый: этакая гниль…»
Нет, надо соблюдать осторожность.
Итак. Прикидывающийся масоном «с высокой степенью посвящения» Борис Остромов – в меру обаятельный, в меру жалкий шарлатан вроде Остапа Бендера – дурачит группку ленинградских обывателей из «бывших». Дело происходит в 1925 году. Остромов спекулирует на их увлечённости эзотерикой, хотя на самом деле этих людей привлекает возможность побыть в обществе себе подобных, хоть немного почувствовать себя не «бывшими», а просто людьми. Гегемония пролетариата не предоставляет им для этого других возможностей.
Что самое интересное: Остромов ненастоящий, но ученики его, по крайней мере один из них, – настоящий! Его дурачат, а он и впрямь учится. Левитировать, например. Заглядывая в окна, как Маргарита.
«Реминисцентный слой» в романе необычайно толст. Помимо очевидных нам, неучам, остапов ибрагимовичей и маргарит, тут тебе и Грин с Волошиным, и позабытый-позаброшенный поэт Одинокий, и, кажется, Михаил Кузмин с Юрием Юркуном и Ольгой Гильденбрандт, и… Наверное, даже у простолюдинки Тамаркиной, затесавшейся в эзотерический кружок, есть какой-нибудь достойный уважения прототип.
Неслучайно же эта Тамаркина – единственная из представителей «пролетариата», кто описан в романе с сочувствием. Все прочие: женщины, мужчины и даже дети – представлены злыми карикатурами. Художественная структура романа от этого распадается. С одной стороны, «бывшие»: тут полноценные образы, с «диалектикой души» и «подкладкой судьбы», с другой стороны, «подлый народец», эти совсем из другого жанра. Босх обзавидовался бы. Ругань, сипение, чирьи, смрадные дыры ртов. Почему?
Тут-то я и вспомнил про фильмы. В кино ведь образные средства более схематичны, чем в литературе, там мы как раз и имеем дело с карикатурами, но это не мешает нам «обманываться», воспринимая карикатуры всерьёз, усматривая за ними «прототипическую действительность». «Низкие люди» – низкий жанр (синема, семечки), нормальные люди – нормальный жанр… Только вместе они не сходятся.
Помните «Романс о влюблённых» Кончаловского? В первой части все говорят стихами, во второй невнятно бормочут под бытовые шумы. Там это понятно, про что. Пока влюблённость – всё цветное и все летают, а как начинается тупая повседневность, становится скучно, трудно. Но именно из этой трудности рождается любовь и возникает жизнь. Влюблённость же так и остаётся бесплодной.
Нечто подобное удаётся разглядеть и в финале «Остромова…», правда, в скомканном и принуждённом виде, но об этом потом.
Сперва представим, что фильм не состоит из двух последовательных частей (по-остромовски говоря, «эонов»), а выглядит примерно таким образом: половина персонажей говорит стихами, а половина матерится и бубнит «вижу горы и долины, вижу письку Катерины» (цитата из романа). Каким получится фильм? Будет тихим и светлым? Не знаю.
Возможно, идея автора как раз и состоит в том, что побеждает зло. Припасённый под конец романа монолог о том, что Россия – труп и населяют её мертвецы, исходит как бы от разочаровавшегося персонажа, но написан с таким вдохновением (и так много в нём знакомых ноток быковской публицистики), что трудно побороть ощущение – это сам автор делится сокровенным:
«Мертвы были пустоши и города, дворцы и трущобы, мертва была словесность, из тончайшего слоя которой высосали все соки; мертвы были солдаты, не хотевшие умирать ни за что, и генералы, не умевшие воевать; мертва была история, пять раз прошедшая один и тот же круг и смертельно уставшая от себя самой… Были, впрочем, те, кто хотел гальванизировать этот труп и заставить его пройти ещё один круг… Все песни его были песнями трупа, а беды и победы – горестями и радостями червей в трупе… Больше всего труп любил увековечивать мёртвых – живым в нём было неуютно… Как всякий труп, он расцветал и оживал только от новых смертей, и то ненадолго: миллион от голоду, миллион высланных, миллион выселенных! И труп ходил».
Для сравнения – цитата из Быкова-публициста:
«Русскую реальность описывать больше невозможно, да и не нужно… Описывать русскую жизнь – значит пилить опилки… Проблема российской реальности не в том, что она кровава, криминальна, дискомфортна, тоталитарна и т.д., а в том, что она скучна».
Тут, кстати, вспоминается Чехов, которого раздражали критики «не знающие, чуждые русской коренной жизни, её духа, её формы, её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский; и Гоголь уже не смешит её. »
Ладно, ладно. Булгаковский профессор Преображенский тоже «не любил пролетариата», даром что родитель – кафедральный протоиерей.
Как можно упрекать в нелюбви, если она от сердца? Писатель волен не любить тех, кого ты любишь. Это значит лишь, что для того, чтобы любить дальше, тебе придётся обходиться без его помощи. Упрекать за это? Конечно, нет.
В конце романа главный герой, Даня Галицкий (тот самый нечаянный взаправдашний ученик), жертвует умением летать ради нуждающегося в нём пролетарского мальчика. Или, может, ради той тоскливой реальности, которая одна только и есть – жизнь, о чём Даня-Надя (альтист Данила) инстинктивно догадывается, а мы, смотревшие «Романс о влюблённых», знаем. Но почему же нам так не по себе от этого? Почему хочется, чтобы Карлсон не оставался с хнычущим Малышом, а улетел?
Верит ли сам автор в такой финал или сочинил его на потребу морали – «подлой, только для того нужной, чтобы мучить», по выражению одного персонажа?
Автор намекает: Данина способность летать есть метафора творчества. Даня сам толком не знает, как это у него выходит, а вот у фанатика и зануды Левыкина не выходит, хоть он очень старается. Почему?
Потому что в мире Левыкина «страдание, усердие и другие невыносимые вещи были единственной мерой достоинства». Он из тянущего книзу мира – «я должен, ты должен, они должны». Даня же свободен. Ради своего «творчества» он перешагнул (с помощью подкинутых автором обстоятельств) через любящую его и нуждающуюся в нём женщину. Искусство требует жертв. А жертвы – они ничего не требуют.
Знаете, Дмитрий Львович, сегодня проходил по улице Бочкова, постоял у мемориальной доски: «Здесь с семьдесят первого по семьдесят четвёртый год жил Василий Шукшин». Там ещё памятник, ну Вы помните, очень хороший.
И подумалось. Вот жил человек. Тоже выводил «типчики», тоже скотство всё это людское ненавидел. Переживал, злился, «Кляузу» писал в «Литгазету». Много курил. Но всё равно прощал, жалел их. Потому что знал изнутри.
А Вы называете жалость «брезгливым чувством».
Вы противопоставляете себя бездарному писаке Кугельскому – напрасно. Вы лучше в порядке эксперимента Шукшину себя противопоставьте.
Народ, который Вы ненавидите за его икоту и скотство, как-то всё же выскреб, выцарапал из себя этот памятник. Внизу, на самодельной фанерной полочке, лежат цветы.
Дико извиняюсь, но можете ли Вы вообразить памятник оставившему столь заметный след в российской словесности уважаемому себе?
И в том ли причина, что словесность сия мертва, как всё русское?
Может, не в ней дело?
Вы очень хорошо пишете, что забитый и униженный человек обретает возможность «взлетать», когда давление на него достигает последнего предела – вроде как у нищего отняли его рубище, и он перестал быть нищим, став голым, то есть попросту человеком. Но взлететь Вашим героям почему-то мало. Им нужно обязательно отомстить, превратив обидчиков в тщательно описываемые Вами мясные лужи. Кугельского в отместку за донос ослепили… А ведь «Мне отмщение, Аз воздам». Не доверяете Никому это дело?
Вы пишете о прощении, но как действительного события в романе его нет. Как и любви. Даня не любит ни отца, ни брата. Он лишь привязан к своему детскому восприятию матери, к морю, у которого вырос, к быту Воротниковых, короче говоря, к «хорошим местам». Людей в этих местах нет. Они не важны.
Ваше пресловутое жизнелюбие, противопоставляемое диким обычаям немилого Вам народа («больше всего труп любил увековечивать мёртвых»), – это любовь к себе. К тому, чем можно овладеть, полюбоваться, что можно съесть.
Того, что не для Вас, Вы не любите. Как не любит Ваша Надя опекаемых ею стариков – слишком уродливы.
Вот Вам и разгадка, почему всё кажется «мёртвым».
Почему нет качественно удовлетворяющей Вас обратной связи (что, в свою очередь, заставляет Вас писать всё больше и больше).
Вы не попадаете в читателя.
Признательность и любовь дарит Вам ближний круг, а дальше, там, где ненавистные «миллионы», – пустота.
«Сдохли они там все, что ли?!»
Говорите, что сдохли, но тут же пробуете достучаться ещё и ещё раз. Дмитрий Львович, это же экстенсивный метод хозяйствования! Говорят, он погубил советскую экономику…
И последнее. В романе предпринята попытка отмазать масонство от участия в Февральской революции и развале государства. Дескать, лёгкие шутейные люди, их, можно сказать, и вовсе-то не было.
Любопытно, найдётся ли писатель, который взялся бы убедить общество в несуществовании черносотенцев?
Чувствуется, что нет. Знаете, почему?
Это вас, если вам так угодно, не было. Мы-то были.
[по наводке
ivanchenkoval ]
.
Читайте также: