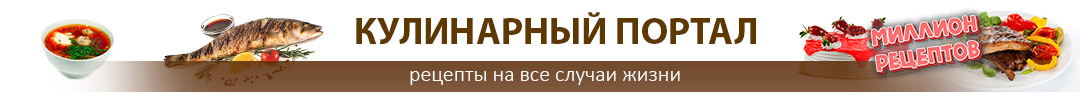Пирог с адамовой головой
Обновлено: 16.05.2024
"Пирог с адамовой головою"
14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет к изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся - неизвестно, но, по господствовавшему мнению, его подожгли либо черти, либо поляки.
Скорее всего - черти, чему есть и косвенное доказательство.
Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора - пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик.
Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели - дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени.
Этот прием - отмахивать пламя платком - прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается, а черти пользуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь: дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но недостроен и неотделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса: раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знамением.
Такие дома встречались в разных городах, бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают кикимор сомнению,- но все-таки где-нибудь кикиморам жить приходится; неудивительно поэтому, что про такие дома писали и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем не сходного политического строя.
Пермский губернатор И. И. Огарев кикимору отрицал. Следовало бы ему попробовать поселиться в доме Чадина с супругой хоть на неделю и тем доказать торжество просвещения. Вместо этого он позвал старушку, видевшую кикимору собственными глазами, разнес ее за распространение нелепых слухов и пригрозил ей присягой. Старушка сказала, что на присягу готова, что врать ей не приходится, так как она уже доживает свой век, а что собственными глазами видела - то готова подтвердить: видела кикимору самую настоящую, и ошибки быть не может. И губернатор оказался в довольно глупом положении. Он было попробовал:
- Ты что же, баба неразумная, в кикимору веришь?
- Я, батюшка, твое превосходительство, Господа Бога видеть не удостоилась, да и то верю; а эту нечисть своими глазами зрела - как же мне в нее не верить! Да и все знают.
Логика неопровержимая - и старушку отпустили, однако с запретом впредь болтать.
Собственно, этим и заканчивается история. Мы же прибавим: было бы странным, если бы дом Чадина, уже давно не существующий (он снесен нежилым, а на его месте построена женская гимназия - угол Петропавловской и Театральной площади),- если бы этот дом не был заколдованным. Во всем виноват его хозяин и строитель, Елисей Леонтьевич.
Человек - кремень, жила, скуп до невероятности и с людьми жесток. Своих дворовых заставлял не только строить, но и выделывать кирпич. И, подражая великолепным римским папам, обратившим памятники Аппиевой дороги в строительный материал, - Чадин кощунственно грабил местное кладбище.
В лунную ночь выходила партия дрожавших от страха рабочих, под водительством более отчаянных, и направлялась на кладбище. Там, по приказу хозяина, отрывали от могил и забирали с собой чугунные и каменные плиты и на руках переносили их в строящийся дом. На рассвете эти плиты вделывались в пол, стены и печи, надгробными надписями внутрь. Выходило дешево, прочно, и кикимора заранее радовалась таинственной отделке своего будущего жилья.
Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи.
Покойного диакона плита чугунная, с надписью церковной вязью, пошла на подпорку лестницы.
Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у самого порога столовой комнаты - для вечного попирания ее нечестивыми ногами.
Грешное дело делали рабочие - и люто ненавидели хозяина, гнавшего из них седьмой пот. Донести на него боялись, так как сами были в большинстве безбумажные бродяги, беглые крестьяне дворянских губерний, люди, знакомые с острогами и с тайгой. Не ровен час - начнется следствие, и всем им пропадать. Грех замаливали по кабакам, пропивая чадинские грошики.
Но, при всей скупости, Чадин умел бывать и хлебосольным - для важных гостей. На рубеже Сибири люди умеют есть подолгу и жирно, пить большими глотками крепчайшее пойло в количестве, для жителя средней России непостижимом и убийственном. Леса под Пермью полны зверья и дичины, Кама обильна рыбой. Оленина, кабаний и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов и всех засолов - все это было местным и обычным, доступным человеку среднего достатка. Кто же хотел угостить на славу, тот после пельменей и сычуга - блюд излюбленных и обязательных - поражал пирогом с такой начинкой, чтобы не сразу угадывали, чем блеснул повар и чьи души на тот пирог загублены. Вино подавалось только для красоты, а пили водку стопочками и чарочками - по первой, по второй, по третьей, колом, соколом, легкой пташечкой, с грибком, с перцем и с кряканьем, до красноты носа и бледности лба,- а потом повторяли.
В день святого Елисея славится пирог чадинский, и не тонкостью вкуса, а жирностью и сверхъестественными размерами: приносили его четверо слуг и ставили перед хозяином на расчищенный стол. Первый кусок он вырезал себе, а дальше слуги оделяли гостей: в первую голову председателя уголовной палаты Андрея Ивановича Орлова, за ним князя Долгорукова, сосланного в Пермь за чудачества, человека важного и величественного, пока не напьется пьяным до бесчувствия.
Так и было в дни строительства нового чудинского дома - праздновал хозяин свои именины. Гостей подобрал самых в городе важных и самых нужных ему по многим делам. Водка стояла в больших графинах, а запасная на особом столе в четвертях. Разговор был не в обычае - только пили, крякали и жевали. В наибольшем почете оказался соленый груздь в сметане, добрый спутник напитка, предохранитель от напрасного обжога. Мелкий рыжик уже не спасал - приходилось бы глотать его столовыми ложками. Студень прикончили сразу, из ухи лениво вылавливали куски налимьей печенки - ждали.
И вот наступил самый торжественный момент: перед хозяйским местом расчищено целое поле для именинного пирога, чарки налиты заранее, и даже кряканья не слышно. Губы и усы насухо обтерты салфетками. Человек внимательный заметил бы, что и слуги взволнованы: один на ходу лязгает зубами и едва не уронил груду собранных тарелок.
Внесли пирог четверо кухонных молодцов - рожи на подбор арестантские. Чадин охотно держал беспаспортных, живших за стол и кров, менявшихся часто, способных на всякое порученье. А набирать их советнику уголовной палаты было нетрудно. Они работали и на постройке, и по домашнему хозяйству, и по рыбному промыслу, и по лесной охоте,- как у большого помещика. А в случае провинности - расправа с ними была коротка.
Гигантский пирог двусторонней выпечки поставили перед хозяином-именинником. Пирог покрыт стеганым настилом - чтобы сохранить жар.
Помедлив для пущего впечатления, при общем почтительном молчании, хозяин привстал, протянул руку и разом сдернул теплую покрышку. Сдернув - остолбенел, замер, покачнулся и осел в хозяйское кресло. Гости вытянули шеи и тоже замерли, слуги попятились и скрылись за дверью.
На пироге, обширном, как могильная плита, отлично испеченном, ясно отпечаталась в самой середине Адамова голова со скрещенными костями, ниже - лестница, а по бокам крупные буквы неразборчивой надписи - читай слева направо.
Заторопился домой председатель Орлов, за ним заспешили и остальные гости. Хозяин сидел с лицом, налитым кровью, качал головой и бормотал невнятное. Достало сил отодвинуть от стола кресло, встать и ухватиться за край скатерти. Затем он повалился на пол, а на него пирог, стаканы, тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью. Никто его не поднял - и слуги и гости разбежались. Первым из кухни убежал повар, оставив в горячей русской печи намогильную чугунную плиту, на которой был выпечен именинный пирог доброму хозяину.
Вот какие страшные вещи рассказывали в городе Перми про Чадина, про его пирог и про его дом.
Сам Чадин вскорости умер, не приходя в полное сознанье. Голова тряслась, губы бормотали жалкие слова о покойниках, попавших в начинку пирога. Когда его соборовали, он отворачивал голову от креста, как будто ему совали в рот кусок пирога с Адамовой головой.
И с той поры недостроенный дом Чадина явно для всех стал заклятым и чудовищным. Неизвестно, кто запер и изнутри заложил камнями и бревнами ворота дома, куда ни один здравомыслящий человек заглянуть не решался даже днем. Впрочем, стало известным, что после смерти хозяина ранее проживавшая у него и бывшая с ним в любовной связи кикимора переселилась в новый дом и жила там, во всяком случае, до опустошившего Пермь пожара. Днем она спала, по ночам безобразничала, пугая окрестных жителей. Хорошо ее рассмотрела только упомянутая старушка; другим удавалось видеть ночью только тени гостей, пробиравшихся в дом кикиморы, где они скандалили, кричали, стучали и порой доходили до такой наглости, что пели непристойные песни.
Кое-что знал о доме кикиморы! пермский полицеймейстер, но он был человеком молчаливым. Был знаменит и тем, что умел отыскивать краденое, если кража совершена у видного в городе человека, готового дать мзду за нахождение пропавших у него вещей. Ездил полицеймейстер в тарантасе, который можно было издали узнать по серой лошади, и когда проезжал мимо дома Чадина, - отворачивался, не из боязни и из презрения к суеверию и напрасным россказням. Это был человек передовой, бесстрашный и равнодушный к смене губернаторов. Значит,- не боялся и кикиморы.
Дом Чадина простоял лет пятьдесят - так никто в нем и не жил. К концу века он был куплен городским обществом, снесен до основания и на его месте выстроено здание женской гимназии. И тогда все переменилось, по ночам дом стоял молчаливо, а днем в нем раздавались веселые девичьи голоса. А гимназисты, проходя мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе волосяную рассаду.
Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополевый против нее театральный сад, через который удобно ходить наискось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной русской реки, которая Волге приходится не младшей, а старшей сестрою.
Михаил Андреевич Осоргин - Пирог с адамовой головою, читать текст
См. также Осоргин Михаил Андреевич - Проза (рассказы, поэмы, романы . ) :
Повесть о некоей девице
Фигурантка Настя-Коралек, так прозванная за округлость форм и отменный.
Повесть о сестре
В этой книжке записан рассказ пожилого чиновника, сейчас - беженца, об.
Михаил Андреевич Осоргин
Пойдет сейчас рассказ о доле соловьиной — об участи одного соловья, своей судьбой предсказавшего судьбу патриарха Никона[1]. А сам соловей о том ничего не знал.
Соловей, малая серая пташка, вернулся из теплых стран к себе на родину, в Валдайский уезд Новгородской губернии. Местом жительства избрал тот остров на озере Валдайском, где стоял Никоном построенный Иверский монастырь[2].
Островок лесистый, и кругом большого озера тоже леса и леса, а само озеро полно рыбы. В уездном городке Валдае жители промышляли литьем колоколов и бубенчиков, от самого большого до самого маленького, годного под дугу; об этом всякий знает по двум стишкам:
И еще жители были знамениты своими валдайскими баранками отменного вкуса. А чем они занимаются нынче, — не знаю; колокола никому не нужны, заместо бубенцов треплют люди языками, а про баранки рассказывают деткам в сказках, да и то на ухо.
Соловей выбрал себе остров за красоту и спокойствие. Прилетел сюда холостым, повертел хвостом и женился. Вместе с женой вили гнездо, устилали пухом, а дальнейшее — забота женская, пока не выведутся птенцы, которых кормить опять придется вместе. В ожидании соловей занимался прямым своим делом: выступал солистом в ночных концертах.
Соловьиное пенье — дело русское; иностранцы ничего о нем толком не знают, у них даже и нет соловейной науки. И рассказать им про нее невозможно, потому что у них нет подходящих слов. Никакой переводчик не переведет на иностранный язык всех тонкостей переводов (колен) соловьиного пенья: пульканье, клокотанье, раскат, плёнканье, дробь, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин, оттолчка…
Наш валдайский соловей был великим знатоком всех этих переводов, так что мог бы потягаться и с курским. Особенно хорошо умел запускать лешеву дудку и юлиную стукотню (когда у места); по раскату же был первым мастером: где и раскатиться, как не на острове среди озера! И, слушая его, монахи по весне спали «соловьиным сном», — ворочаясь с боку на бок и вздыхая.
И вот однажды, напившись росы с березового листа (это для соловья, как для человека — рюмка спиртного), соловей прочистил нос, пулькнул, булькнул, перекатил дробь и только хотел раскатиться, как слышит: звякнул на монастырской колокольне малый звонец, а за ним загудели колокола, благовестные и полиелейные. И тогда же донеслось до соловья из монастырского собора осьмогласное на два лика пенье. И было это так необыкновенно, что соловей сорвал голос на гусачка, стукнул дважды — и умолк.
Соловьиха же, сидя в гнезде на яйцах и невольно очнувшись от сладкой дремы, про себя сказала: «Ке-се-ке-се-кеса?»[4]
Это было в майскую ночь одна тысяча шестьсот шестьдесят шестого года: заметь, что после тысячи идет число звериное! А по-монастырски, в 174 году.
И возревновал соловей: какие такие могут быть колена, каких он не знал?
Возревновав, — решил побывать на месте, посмотреть и послушать, в чем тут дело. А кстати, шел слух, что в монастыре густо бродят черные тараканы: после мурашиных яиц — первое соловьиное лакомство, как и говорится в пословице: «Падок соловей на таракана, человек — на льстивые речи».
И вот что случилось дальше, как отписывает о сем архимандрит Филофей в своей грамоте:
«Мая в 20 число, в шестую неделю по Пасце, в соборной церкви на утрени, на втором чтении, пошел из церкви в притвор северными дверьми дьякон Варсонофей, и в северных-де дверях летит ему встречу птица, и тот дьякон чаял, что нетопырь летит, и учал на неё махать и в церковь не пускать, и та-де птица мимо его пролетила, и через братию, которые седили подле дверей, полетила вверх через деисусы в олтарь».
Дьякон Варсонофей был человек степенный, почти что не пьющий, — разве для прочистки голоса, — и любил порядок; а виданное ли дело, чтобы нетопыри и птицы залетали в алтарь пачкать? Замахал дьякон широкими рукавами рясы, а не достав, искусился сшибить незваную гостью орарем[5], сняв таковой с плеча. Но, как уже описано, не убоялась птица пролететь через деисусы — тройную икону Спасителя, Богоматери и Предтечи — и скрылась в алтаре.
Не гнаться же за ней почтенному и грузному Варсонофею, большому мастеру по части ловли рыбной, но в птичьей ловитве неискушенному! И все бы ничего бы, если бы не случилось чудного дела, а именно:
«И как начали петь степенную песнь, первой антифон, и в олтари на горном месте седя, преж почал посвистывать по обычаю, и защокотал, и запел, и пропел трижды, и то пенье мы, архимарит, и наместник, и строитель, и братия, слышали».
А нуте, монахи, сразимся, кто лучше! Ваши ли распевы строгого неизменного чина: знаменный, трестрочный, демественный уставной, мусикийский киевский — или же наш соловьиный восторг без чинов и запретов: и бульк, и клык, и щелк, и дробь, и всяческая стукотня под любую лесную птицу, хочешь — под кукушку, а то под дятла; а желаете — свисток с горошиной или базарная детская дудочка.
Замерли монахи: откуда такое пенье?
Первым усмотрел в алтаре соловья пономарь и возвестил архимандриту, который с братией пошел в алтарь того соловья посмотреть. И видят: сидит малая птица на горном месте, отведенном великому господину патриарху, где и сам архимандрит и наместник не садятся. Когда же ввалились черные монахи с сизыми носами, — убоялся певец и начал биться крыльями в окне, ударяясь о зеленое стекло с переплетами. От монашеского духу захотелось ему на волю.
Может быть, и вылетел бы прежней дорогой — через деисусы в выходную дверь собора, но монахи порешили изловить певчую птичку. Один сбегал за лестницей, другой за клеткой. Молодому послушнику, здоровому детине, приказано было ловить соловья руками и скуфьей.
Знающий человек скажет, что так соловья можно только загубить. Даже на воле соловьев ловят с великой осторожностью: плетеным тайничком, запрокидной сеткой, лучше всего — понцами в два полотна или же лучком — сеткой на обруче. Иначе помнешь, и от перепугу соловей лишится голосу.
Пока бегали — соловей бился в окне, как большая бабочка. А когда малый, взобравшись на лестницу, почал цапать его мужицкими лапами, как ловят муху на стекле, — полетели вниз перышки, на святой алтарь. Приняв, зажал в горсть, сунул в скуфью, слез и принес отцу архимандриту.
Отогнув борток скуфьи, отец архимандрит заглянул внутрь, — а за ним вся черная братия, так что и свет заслонили. Велел всем расступиться, остались только сам архимандрит Филофей, наместник Паисий и строитель Евфимий. И тогда увидали синеву замкнутых век мертвой птички, понапрасну загубленной.
И было так обидно, что дьякон Варсонофей, забыв о святости места, набросился на неловкого парня, дал ему согнутым перстом по затылку и сказал напраслину про его мамашу, каковое слово, за общим говором, осталось незамеченным.
Про смерть соловья разнесли молву малые пташки: ласточки, синички, воробьи, щеглы, чижики. И весть об этом донеслась до великого господина, святейшего Никона-патриарха, который проживал в то время в своем любимом Воскресенском монастыре. Тут тоже, по реке Истре, были хороши леса и соловьев было немало. Их пенье доносилось до ушей патриарха, когда он засиживался до глубокой ночи за книгами и за раздумьями о новокнижном мятеже. В те дни упрямый Никон готовил последний и жестокий удар своим врагам, ревнителям старой веры, двуперстого сложения и сугубой аллилуйи. Но, занимаясь большим делом, Никон, суетный и капризный, никогда не упускал путаться в пустяках. Узнав про событие в Иверском монастыре, — взволновался и обиделся, что не был своевременно извещен подначальными монахами про то, как в монастырскую соборную церковь влетел соловей, сел на его, великого господина, горном месте, пел дивно, после чего погиб в руках самого архимандрита. Проведают про такой случай враги — распустят небывальщину про великого господина!



![Бестселлер - Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное] - читать в ЛитВек](https://litvek.com/tcover/5/t305605.jpg)




- « первая
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- . . .
- последняя (191) »
Крестьяне в тех местах были мирны, направить бунт было не так легко и просто! В иных местах, едва появится губернатор, — падают мужики на колени, просят прощения, что сразу бунтовать не вышли. Однако картофель сажать не согласны — нет ни лишней земли, ни картофеля.
Несколько лучше пошло дело, когда приступили к порке и проповедям. В иных местах порка вызвала «невежественное ожесточение», хотя тут же приглашенный священник объяснил, что порют крестьян для их же пользы, а за самой поркой, чтобы закон нигде не был нарушен, наблюдал приезжий жандармский офицер. Кого не убеждала порка, тех заковывали в кандалы и отправляли в город Петровск для предания суду. Пробовали пороть с выбором — дело не подвинулось; когда же стали пороть всех подряд — пошло легче. Едва сдерживая слезы жалости и негодования, смотрел гуманнейший губернатор, как наилучшие меры правительства и местного начальства натыкаются на темноту и упорство народа. Не то чтобы крестьяне не соглашались приступить к посадке картофеля, — они уже на все согласились, «только дайте приобвыкнуть». Они даже подписали добровольный общественный приговор: «Навсегда повиноваться правительству, над нами поставленному, обязавшись картофель сеять без всяких прекословий и толков». Но явный дух непокорности и отсутствие чистого раскаяния проявлялись немедленно, как только ученый проповедник, магистр богословия Евфимий Дьяконов, отслужив благодарственный молебен, приступал к своей двухчасовой просветительной речи, иногда повторяя ее и дважды в день и призывая виновных к полному раскаянию.
— Не нас, батюшка, смиряй от Писания, а вон тех! А мы смирные!
Замучился и председатель палаты Халкиопов, пока наконец не установился обычай: после предварительной утренней порки — благодарственный молебен, а как только проповедник начинал речь, а полицейские приступали к вытягиванию из крестьянской толпы нераскаянных, — так вся деревня, словно бы по тайному соглашению, пускалась наутек в лес, сначала всей толпой, а дальше врассыпную между деревьями, а возвращались одиночками под покровом ночи. Еще никогда не было столь утомительного бунта в Саратовской губернии.
И лишь тогда появился во всем этом деле некоторый порядок, когда в дело вмешался наконец сам император, приказом июня 9-го дня 1842 года всемилостивейше предписав:
«Дело о бунте внимательно разобрал, годных отдать в рекруты, а неспособных отправить в крепостную работу в Бобруйск».
Прошли весна и лето, миновала и осень. Кое-где в полях от весеннего посева уродились чертовы яйца. И прошел еще год, и прошел другой. Много крестьян оказалось в бегах, немало в солдатах и на крепостных работах. Усердным начальством были поделены награды за проведение посевной кампании и усмирение картофельных бунтов. Управляющий саратовской палатой, раньше считавшийся человеком бедным, обзавелся под Саратовом богатым имением, окружные начальники удовольствовались меньшим, волостные — пустяками. Больше принуждений не было, и местные власти перешли на верный путь мирных соглашений.
Но если кто-нибудь думает, что правда может остаться под спудом, то он заблуждается! Не прошло и полных трех лет, как Сенат, до той поры решавший возникшие между властями пререкания по делу о картофельном бунте и отчаявшийся что-нибудь окончательно решить, все же пришел к убеждению, что бунта, в сущности, не было, как «не было даже и простого ослушания начальству». А так как при этом оказалось, что обвиняемые крестьяне, ранее не сосланные на работу и не взятые в солдаты, все еще выжидают своей участи по тюрьмам, где их трехлетнее содержание падает на казну немалым расходом, — то счел мудрый Сенат справедливым, за полным отсутствием вины, зачесть тюремным сидельцам за наказание их долгое содержание под стражей и, выдрав их плетьми на случай будущих правонарушений, — выпустить на свободу без дальнейших последствий.
И всякий, кто пересмотрит производства дел о картофельном бунте по всем инстанциям, должен будет признать, положа руку на сердце, что из всех по тому делу решений — это последнее было если не самым справедливым, то самым милостивым.
ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ
14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет к изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся — неизвестно, но, по господствовавшему мнению, его подожгли либо черти, либо поляки.
Скорее всего — черти, чему есть и косвенное доказательство.
Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора — пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик.
Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели — дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени.
Этот прием — отмахивать пламя платком — прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается, а черти пользуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь: дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но не достроен и не отделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса: раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знамением.
Такие дома встречались в разных городах, бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают кикимор сомнению, — но все-таки

CC BY
Похожие темы научных работ по языкознанию и литературоведению , автор научной работы — Барковская Нина Владимировна
Текст научной работы на тему «Сказовое повествование в рассказе М. Осоргина «Пирог с Адамовой головою»»
СКАЗОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В РАССКАЗЕ М. ОСОРГИНА «ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ»
Политические высказывания М.А. Осоргина - человека, прошедшего путь от революционного терроризма до масонства, пострадавшего и «за революцию», и «от революции», эмигранта, считавшего себя «гражданином России», - кажутся весьма неоднозначными и парадоксальными. Так, размышляя о Гражданской войне, он признавал «свою правду и свою честь» и у белых, и у красных. В «Сивцевом Вражке» он писал, что бесчестен был бы народ, не выдвинувший защитников идеи родины культурной, идеи воспитанной человечности; однако бездарен был бы народ, не сделавший опыта полного сокрушения старого уклада жизни. Общеизвестна и фраза из «Писем к старому другу в Москве»: «Я идеи прогресса не принимаю, ни в природе, ни в человеческом обществе. Мне шелудивый Ванька дороже его благородных потомков»1. В 1941 г. Осоргин писал А.В. Бахраху: «Иногда мировая борьба кажется перебранкой кумушек, чем-то унизительно бездарным». И в другом
письме (А.И. Бакунину): «И я не знаю, чего Рос-
В 1934 г. был опубликован рассказ М. Осоргина «Пирог с Адамовой головою», позволяющий, вместе с другими произведениями 1920-1930-хгг., уточнить представление о мировоззрении писателя.
Парадокс присутствует уже в названии рассказа: обыденное, домашнее и уютное слово «пирог» соединено с книжным, имеющим зловещую окраску, - «Адамова голова». Неоднозначен и субъект повествования в этом рассказе.
С одной стороны, субъект речи не персонифицирован в перволичную форму «я», но, с другой стороны, как субъект сознания рассказчик, несомненно, присутствует: он ведет повествование («Собственно, этим и заканчивается исто-3\
рия» ), он завершает рассказ личным воспоминанием. Следовательно, в рассказе использована форма повествования, промежуточная между безличным и личным типом - форма сказа. Как известно, сказ создает иллюзию устно произносимой речи (отсюда - ощущение личного присутствия рассказчика) и иллюзию социально
1 Цит. по: Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанье. (Пути и судьбы русской эмиграции). М., 1990. С. 421.
3 Осоргин М.А. Мемуарная проза. Пермь, 1992. С. 260.
определенной речи.4 Осоргин соблюдает тонкое равновесие между задушевно-личностной интонацией и стилизованной «простонародностью» языка («неровен час», «рожи», «для пущего впечатления», «вскорости»). Он рассказывает историю, сохранившуюся не только в личной памяти, но в памяти жителей Перми; не случайно появляется местоимение «мы»: «Мы же прибавим. »
Роль повествователя в рассказе оказывается двойственной: это и роль мемуариста, и роль летописца, пишущего «историю одного города», но историю, сохранившуюся в городских слухах, народной молве - не официальную, а, так сказать, житейскую, занимательную «историю».
Эта история с «историей» оформлена композиционно в три части, отделенные отточиями. Первая и третья повествуют о доме Чадина, средняя - о самом Чадине. Такая композиция напоминает форму «рассказ в рассказе»: история города обрамляет историю одного из жителей.
Рассмотрим эти части более пристально.
Первая часть играет роль пролога. О чудесном (кикиморе) повествуется с документальной достоверностью («Этот прием - отмахивать пламя платком - прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается, а черти пользуются им постоянно»5). В этой части (а затем на протяжении всего рассказа) сталкиваются два стилевых потока: реалистически-очерковый и романтически-условный. С одной стороны, есть точная хронологическая и географическая «привязка» («14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме»). Точно названо социальное положение персонажей - это все чиновники, люди «официальные»: губернатор, советник уголовной палаты (позднее -председатель уголовной палаты, полицейме-стер). Встречаются обороты речи, характерные для газетных репортажей, публицистики: «Пермский губернатор И.И. Огарев. », «о чем скажем ниже», «политический строй», «косвенные доказательства», «торжество просвещения».
С другой стороны, речь идет о заклятом доме, о бесовском и чудовищном - о том, что происходит «главным образом в полночь». Начало
4 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX - XX вв. М., 1994. С. 48.
5 ОсоргинМ.А. Цит. соч. С. 258
рассказа не только с точностью летописи сообщает дату пожара, но и рисует мифологическую огненную стихию, страшную и прекрасную: не сообщается, например, о погорельцах, гибели скарба, а звучит грозный ассонанс [о]: «по молодости лет и изобилию лесов в округе город. горел легко». Затем этот гул огня гиперболизируется: «Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр. »
Столкновение этих двух стилевых потоков (очеркового и патетического) порождает иронию, в свете которой и показана спокойно сидящая кикимора в чадинском доме, неподвластном огню.
Итак, автор-повествователь передает городскую «быличку», ссылаясь на авторитет свидетелей (старушки, благоразумного прохожего) и опираясь на слухи, «господствующее мнение». Он иронически дистанцируется и от этих слухов, и от официальной точки зрения. «Логика неопровержимая» старушки ставит в «глупое положение» и губернатора, и «наивных ученых людей».
Если первая часть повествует о фантастическом как о реальном, то вторая часть, напротив, передает реальную историю как чудесную легенду. Речь идет о преступлении и наказании жадного чиновника, советника уголовной палаты Елисея Леонтьевича Чадина - «кремень, жи-
ла, скуп до невероятности и с людьми жесток». Чадин - исчадье ада, в категорию нечисти попадают его гости (судейские чиновники), его работники (уголовники), а также гости сожительствовавшей с Чадиным кикиморы (деклассированные элементы). Вся история произошла на именины Чадина, т.е. в день ангела; вполне естественно, что ангельские силы покарали беса.
В чем суть его преступления? Он использовал для строительства дома могильные плиты, оскверняя кладбищенскую землю, тревожа прах покойников, преступая тем самым родовой (теллурический, по определению Г. Федотова7) закон Матери-земли. Заветы народной этики слышатся в словах повествователя - напевных, с обилием инверсий, церковной лексики, напоминающих причитания:
«Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи.
Покойного диакона плита чугунная, с надписью церковной вязью, пошла на подпорку лестницы.
Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у са-
7 Федотов Г.П. Стихи духовные: Русская народная вера
по духовным стихам. М., 1991. С. 89.
мого порога столовой комнаты - для вечного попирания ее нечестивыми ногами».8
На огромном именинном пироге отпечаталась могильная плита с изображением черепа. Вместо именинной здравницы Чадин получил проклятие, вместо долгих лет жизни - скорую смерть.
В третьей части рассказывается эпилог истории с домом. В конце века он был куплен городским обществом, снесен до основания, а на его месте выстроили здание женской гимназии. И тогда здесь расцвела жизнь: юность, просвещение, молодая влюбленность. Меняется и звуковая окраска: если «по ночам дом стоял молчаливо», то «днем в нем раздавались веселые девичьи голоса».
Так конкретный дом - на углу Петропавловской и Театральной площади - становится образом-символом, наглядным воплощением истории не только Перми, но и России в целом. Характерно, что рассказ доведен до рокового рубежа - не сообщается, что стало с домом после 1917 г.
Но помимо повествователя-летописца есть, как мы говорили, и повествователь-мемуарист, вспоминающий свои родные места. Его лирические «вставки» присутствуют на всем протяжении текста.
Начинается рассказ со слов о молодом городе Перми, городе-фениксе. В середине рассказа описываются природные богатства, изобилие Прикамья: «Леса под Пермью полны зверья и дичины, Кама обильна рыбой. Оленина, кабаний и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов всех засолов. »9. В конце снова упоминаются улицы Перми, тополевый сад, набережная, и звучит гимн Каме - «прекрасной и полноводной русской реке, которая Волге приходится не младшей, а старшей сестрою».10
В этом повествовательном «сюжете» кикимора предстает как одно из проявлений полноты, изобилия жизни, как знак древности, исконной укорененности этой жизни. Образы языческих богов, как известно, в христианскую эпоху трансформировались в представителей народной демонологии, таких, как русалки, леший, домовой, водяной, банник и др. Не случайно кикимора отметила греховность Чадина своим присутствием, а на умирающего Чадина посыпались «тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью»
В какой-то степени кикимора в этом рассказе является антиподом административночиновничьего аппарата. Сравнение этого осор-
8 8 Осоргин М.А. Цит. соч. С. 261.
10 Там же. С. 266.
гинского образа с подобными образами у других писателей показывает, что Осоргин в наибольшей степени сохранил именно тот облик кикиморы, который сложился в народных быличках и суевериях.
Так, у А. Толстого в «Русалочьих сказках» (1910) кикимора - сказочный персонаж; она злая, крадет детей, живет в омуте. Как нечистая сила, она пропадает с первым криком петуха: «Осунулась кикимора, остановилась и разлилась туманом, подхватил ее утренний ветер, унес за овраг».11 Кикимора в изображении А. Ремизова («Посолонь», 1907) - тощая, курносая, с копытцами, с «ужимкою крещенской маски», живет в лесу. Она не столько злая, сколько проказливая;
ее дело - «сплетать обманы, причуды сеять и до
По народным суевериям, кикимора - недобрый дух, живущий в доме; обычно является в виде маленькой старушки; все ее пакости довольно безобидны, например, она путает шерсть, бьет посуду. В рассказе М. Осоргина кикимора - «пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское
платье, вышедшее из моды, и чепчик» , живет в доме. Для Осоргина существеннее не злая, а игровая сущность кикиморы. Соединяя реальное и фантастическое, этот образ в основном и определяет ироническую атмосферу в рассказе, причем ирония чувствуется не только в отношении чиновников и обывателей, но и по отношению к политике вообще. В рассказе косвенно обозначено то время, из которого вспоминается прошлое - это время торжества Советской власти, диктатуры пролетариата. В первой части рассказа, характеризуя заклятый дом, Осоргин пишет, что такие дома бывают «и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа. », но «и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем не сходного политического строя».14
Ремизовский сказ в произведениях периода эмиграции тоже смешивает современную лексику, политические реалии, идеологические клише и фантастику а 1а «Диккенс-Гоголь-Рабле», добиваясь комического гротеска. Так, в «Легендах о царе Соломоне» А. Ремизов пишет, как черти помогали в строительстве храма: «Понемногу наладилось и с продовольствием. «Режим экономии», вызванный затратами на постройку храма, проведен был блестяще: «пищевой отдел», как самый соблазнительный, поручен бес-
11 Толстой А.Н. Полн. Собр. соч. Т. 1. М., 1951. С. 160.
12 Ремизов А., Зайцев Б. Проза: Книга для ученика и учителя. М., 1997. С. 42-43.
13 Приметы на каждый день / Сост. О. Терпакова. М., 1996. С. 22.
14 ОсоргинМ.А. Цит. соч. С. 259.
Филологический класс 11/2004
чувственным демонам - общественные столовые, рестораны, отели, бистро - все обслуживали демоны. И, конечно, был ропот: «едим чертя-тятину». Но демоны оказались искуснейшими поварами и изобретательными метрдотелями: из падали такое суфле тебе сделают, само в рот прыгает. а из дохлятины подадут эскалоп, только очень все перчат, и потом весь день пить хочется»15. Но у Ремизова словесный экспрессионизм звучит открытой сатирой на строительство нового советского «храма» - «чертятяти-ны». У Осоргина ирония мягче, он дает понять, что не политика - как в прошлом, так и в настоящем - определяет уклад жизни, а народные нравственные устои и природное богатство Прикамья, живительные силы Матери-земли. Устои народной этики несовместимы с устоями чадинского дома, который так и остался не достроенным, а потом был снесен. В подтексте рассказа скрыта мысль о недолговечности нового политического «дома» в России, которая, по Осоргину, вовсе не страна, а особая часть света.
Заветы народной этики не укладываются в рамки политических режимов. Воспоминания М. Осоргина - это воспоминания о своем роде (об отце и матери, бабушке, сестре) и о других людях провинциального городка, «известных по качеству», будь то барон, или извозчик, или хозяин музыкального магазина. О человеке, «известном по качеству», написал в 1919 г. А. Куприн в рассказе «Царский писарь». Интонация этого рассказа - легкая ирония, мягкий юмор, сказовая манера - близки тону осоргинской прозы. Куприн с удовольствием вспоминает Кузьму Ефимыча, вкладывавшего в дело всю душу. Внучка писаря, Глашенька, особа свободомыслящая, не понимает гордости деда, говорит ему: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолю-бие».16 Сам же Куприн полагает, что не политическая ориентация человека, а талант и мастерство, богатство души - истинная основа чувства собственного достоинства. Так и осоргин-ская концепция человека, как нам кажется, опирается не на политические доктрины, а на гуманистические представления, глубоко укорененные в народном сознании, уходящие корнями в религию Матери-земли. В эссе «Россия» (1924) писатель желает родной стране не лучшей политической программы, а солнца днем и теплого дождика в ночи, хорошего урожая хлебов и трав.
15 Ремизов А., Зайцев Б. Цит. соч. С. 240.
16 Куприн А.И. Собр. соч ; в 3 т. Т. 3. М, 1954. С. 345.
Н аши предки верили, что растения способны излечивать болезни и отпугивать нечистую силу. Поначалу тайным знанием о силе трав владели только ведуны-зелейники, но со временем и в семьях крестьян и горожан появились травники и лечебники. В них подробно описывались чародейские и лекарственные растения и их свойства. «Культура.РФ» рассказывает, как с помощью трав отыскать клад, стать храбрым и научиться понимать язык зверей.
Растения как живые существа
Историк Иван Забелин писал, что в древности язычники относились к растениям как к живым существам: по поверьям, травы могли переходить с места на место, менять свой вид и внезапно исчезать, разговаривать между собой, кричать и плакать. Предки также верили, что у каждого растения был свой характер и нрав.

Рвали травы в определенное время и в заповедных местах. Луга, опушки леса и болота с нужными растениями находили «знающие» люди. Растения собирали, соблюдая обряды: следовало «пасть ничком наземь и молить мать — сыру землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья». Прежде чем сорвать цветок, его окружали с четырех сторон серебряными монетами, украшениями из драгоценных металлов или дорогой тканью. Не все растения показывались обычному человеку, чародейские травы давались в руки только знахарям, колдунам и ведунам.
Самыми ценными считались растения, собранные ранним утром, до восхода солнца, на праздник Ивана Купалы (7 июля). Верили, что именно в купальскую ночь распускались магические цветы и показывались чародейские травы. Деревенские лекари и знахари запасали растения на целый год, а смелые юноши шли в ночь на Ивана Купалу в лес за мифическим цветком папоротника. Считалось, что нашедший цветок обретет способность отыскивать клады, станет невидимым или сможет понимать язык животных. В купальскую ночь собирали адамову голову, разрыв-траву, чертополох и другие лекарственные травы.
Рукописные травники и лечебники

Изначально ведуны-зелейники хранили знания о чародейских травах в тайне и передавали из поколения в поколение лишь посвященным. Со временем появились рукописные травники, основанные на их опыте. Сборники использовали знахари, но затем они распространились в крестьянской среде, пользовались популярностью и у купцов и мещан. В лечебниках описывали, где растут магические травы и цветы, как они выглядят, когда их собирать и как применять. Не все рецепты использовались на практике, часть из них была просто занимательным чтением.
Несмотря на подробные описания цветов и трав в этих сборниках, фольклористам довольно сложно опознать в чародейских снадобьях реальные растения и как-то их классифицировать. Травы и цветы имели множество разновидностей, часто одно и то же растение называли по-разному в зависимости от региона, и, наоборот, одно имя могли носить до десятка трав.
Чародейские травы

Часто в травниках упоминалась адамова голова. Считалось, что растение служило атрибутом колдунов и знахарей, его собирали ранним утром на Ивана Купалу. По поверьям, корень адамовой головы помогал увидеть затаившуюся нечисть, а человек, употребивший настой, «увидит», на ком лежит порча. Траве приписывали много чудесных свойств: она облегчала тяжелые роды, внушала храбрость воинам и помогала заживлять раны. Плотники брали ее с собой на высотные стройки церквей и палат, чтобы преодолеть страх высоты. Адамову голову вшивали в одежду для защиты от болезней или носили на цепочке на шее. Корень травы освящали святой водой, клали в церкви на 40 дней, а после носили с собой как оберег.
- Украденное солнце и Божья стрела: во что верили славяне
- Вопросы к нечистой силе: как гадали крестьяне
- История старинных загадок
Еще одна магическая трава — нечуй-ветер. Русский этнограф Иван Сахаров писал, что обладавший этой травой человек, по поверьям, мог остановить ветер на воде, избавить себя и судно от потопления и ловить рыбу без невода. Она росла зимой на берегах рек и озер, искали растение 1 января в полночь: верили, что в это время нечистая сила прогуливается по озерам и рекам и бросает магическую траву для усмирения бури. Обнаружить траву могли только слепые от рождения люди. Иван Сахаров предполагал, что это суеверие придумали бродячие слепцы, пользовавшиеся доверием простодушных крестьян.

У разных славянских народов бытовали поверья о чудодейственной разрыв-траве, известной и под названием расковник. Ее описывали как невысокое растение с острыми листьями, в травниках ее сравнивали с саблей или иголкой. По преданиям, расковник отмыкал любые замки и разрушал преграды, помогал от дурного глаза и порчи. Верили, что трава растет по старым селищам, в темных местах леса и на тайных лугах. Найти ее могли лишь посвященные в таинство чернокнижия люди или же хтонические животные — змеи и черепахи, вороны и сороки. По другим поверьям, разрыв-трава не показывалась из земли, обнаружить ее можно было случайно в том месте, где внезапно сломается коса: считалось, что трава разрушала металлы. Еще один способ — бросить скошенные луговые травы в воду, и только магическая разрыв-трава поплывет против течения.
Славяне считали, что если носить при себе расковник, то будешь защищен от любых болезней. Этнограф и исследователь народной медицины Гавриил Попов писал о таком поверье: «Если человек, сделав разрез, вростит ее в руку, то будет непобедим в драке и приобретет такое обаяние, что ему даже поклонится начальник и не обидит…» Был связан расковник и с легендами о кладах: разбойники якобы зарывали награбленное богатство в землю и запирали на железный замок, а клад стерегла нечистая сила. Чтобы добраться до сокровищ, кладокопатели искали разрыв-траву: верили, что она разрывает любой металл.
Как заставить нечисть плакать

В травниках часто упоминали плакун-траву и описывали так: «высока в стрелу, цвет багров». Произрастал плакун, по поверьям, около озер. Его считали оберегом от нечисти, он помогал справиться с демонами и повелевать ими. Историк Михаил Чулков писал, что трава «заставляет плакать нечистых духов. Одна она в состоянии выгнать домовых, кикимор и прочих и открыть пристут к заклятому кладу, который стерегут нечистые духи». Прочитав заговоры, обладатель корня плакун-травы мог заключить договор с домовым. Вырезанный из корня плакун-травы крест носили при себе от «черной немощи» — так в старину называли эпилепсию. Траву клали в изголовье кровати беспокойным детям, чтобы те хорошо спали ночью.
От нечисти оберегали и колючие сорные травы. Например, чертополох мог отпугивать чертей, успокаивал скорбящих о покойнике и уберегал людей от тревоги. Помогало растение интересным способом: скорбящего человека били не жалея колючей травой. Также чертополох варили с воском, чтобы получить «вощанку», которую вкладывали в ладанку и носили с собой как оберег. Траву клали в трещину над воротами или под крышу дома для защиты от нечисти, а чтобы сберечь скот от болезней, им окуривали хлев.

Крестьяне верили, что на Троицкой неделе в начале лета в лесах и около водоемов появлялись русалки. Они могли напугать, защекотать до смерти, завести вглубь леса или утопить. Оберегом от их проказ считали полынь — ее горький вкус и неприятный запах должен был отпугнуть мифических персонажей. Для защиты от них горькую траву добавляли в букеты цветов и венки.
Магические полевые травы
Наделяли магическими свойствами и полевые растения. И, прежде чем крестьяне путем проб и ошибок определили лечебные свойства трав, они суеверно приписывали им мистическую силу.
В травниках часто упоминали сон-траву: исследователи предполагают, что так называли прострел, сегодня в России этот цветок встречается все реже. В отличие от многих растений из лечебников прострел действительно обладает целебными свойствами: в народной медицине он применялся как успокаивающее и снотворное средство. Прострел расцветает весной одним из первых. В фольклоре бытовала легенда, что сон-трава — сирота, и мачеха-земля первой выгоняла его наружу в холодную погоду. Лиловый или светло-фиолетовый с желтой сердцевиной цветок начинали собирать уже в мае. Траву использовали как сильное снотворное средство, способное погрузить человека в глубокий сон, равносильный временной смерти. По одной из легенд медведь, лизнувший корень сон-травы, залег на всю зиму в берлогу, и человек, последовавший его примеру, проспал с начала зимы до весны. Сон-трава пробуждала пророческие способности, крестьяне использовали ее во время гаданий: девушки прятали траву под подушку, читали заветные слова и ждали предсказания во сне, а после толковали увиденное.

Крестьяне собирали и осот, в травниках его описывали так: «Растет красна и светла (трава), листочки кругленьки, что денежки, собой в пядь, а цвет розный». Осот рекомендовали держать торговым людям и купцам, верили, что он умножает деньги и приносит владельцу честь и славу. А растение петров крест называли царь-травой и считали, что он оберегает от порчи. Траву брали с собой в далекий путь для защиты от опасностей.
В особом, мифологическом отношении к растениям у славян сохранились отголоски языческого поклонения природе. Сложно устроенный и совершенный вид растений наводил язычников на мысль, что «премудрая форма должна заключать в себе премудрую силу».
Читайте также: